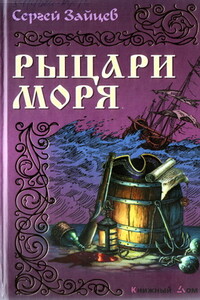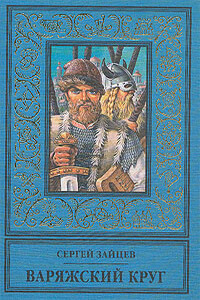Тем временем Черевичник, постелив под себя свитку, дремал на полу у двери чулана. Слышал, как ворочался, и вздыхал, и ругался вполголоса пан Пшебыльский, как он вставал и прохаживался из угла в угол, разминая затёкшие члены. «Не бойся, панок, не пужайся, — успокаивал Черевичник. — Убивать тебя не станем, только шкуру немножко сдерём за проделки твои, — а жить будешь...» И улыбался сквозь дрёму в длинные усы. Мосье затихал на некоторое время, но вскоре опять слышались испускаемые им вздохи, скрип половиц, шорохи, бормотание... Потом вдруг из-под двери слегка потянуло сквозняком, но Черевичник уже не заметил этого странного явления, ибо, утомлённый событиями последних дней, едва справлялся со сном и был не очень-то чуток ко всяким мелочам. Между тем то, что наши герои второпях приняли за чулан, оказалось вовсе не чуланом, а ходом в подклет и одновременно площадкой механического грузового подъёмника. И уж конечно, не был бы Черевичник столь безмятежен, не дремал бы, если бы знал, что целых два выхода ведут из подклета наружу, и что одним из них пан Пшебыльский не преминул воспользоваться, и что, освободив уже ворота одной из арок, неслышно, угрём выскользнул на улицу... Повернувшись на другой бок и сладко зевнув, Черевичник обронил: «Притих, панок? Вот и ладно!.. Не бойся, пожурим только. Барин наш добрый...». И заснул мертвецким сном.
...Греховно-сладкими были её уста, вкусившие запретного. Нагота Евы, как раскрытая великая тайна, ошеломляла, восторгала и сводила с ума, душу переполняла томлением. Тело её, — совершенное, вожделенное и доступное, как плод, который они только что поделили, — занимало сейчас весь мир, а может, наоборот, весь мир уместился, сосредоточился в нём, в бездонном чреве, чтобы очиститься там, в любви, и вновь родиться. В соединении своём, в согласии, в истоме и ласке они стали мудры, как боги, знающие добро и зло. Они поняли: всё, что с любовью, — добро и свет; всё, что без любви, — зло и тьма... Прекрасное тело Евы было горячо, оно полыхало, будто уголья в кострище, — то медные отблески пожарищ блуждали по нему. Тело Евы уже обжигало, оно само стало пожаром. И Александр Модестович, подобно мотыльку в пламени свечи, сгорал в нём, но был счастлив во власти огня, им же разожжённого. Любовь Евы, первая и вечная, рождающаяся в каждой женщине и более не умирающая, подхватив его, крохотного мотылька, поднимала высоко, под сень райского дерева, чарующего глаз, дающего знание, и наделяла его крыльями новыми, ещё более лёгкими, красивыми и сильными, дарила его прозрениями, откровениями, без коих он плутал по жизни (даже постигнув премудрость самых старых книг), как по сумрачной пустыне, полной опасностей, полной скорпионов и гадов, да он как будто и не жил прежде, а прозябал — недослышал, недовидел, недочувствовал, недопонимал, — она дарила его могуществом и уверенностью, провидением и умиротворением, дарила его путеводной звездой.
Придя в себя после всех любовных потрясений (иное слово трудно подобрать, говоря о высшем накале любовной страсти в двух искренних, непорочных сердцах, способных этими искренностью и непорочностью возвеличить и грубую плотскую любовь, облагородить и поднять её, презренную Богом, к обиталищу Божьему же, и самый стон как бы обратить в молитву, а жизни свои с готовностью предать в жертву; способных боль и наслаждение совместить в единое, как едины два тела, созданные одно из другого любовью Господней, разделённые, но вновь соединённые любовью человеческой), утомлённые, познавшие друг друга, Александр Модестович и Ольга провели в объятиях ещё немало приятных минут, пересказывая между амурными утехами каждый свою историю.
Прибежище, которое они обрели на старинной кровати, уютное, хотя и застланное лишь видавшим виды, прожжённым во многих местах сюртуком Александра Модестовича, очень располагало к беседам такого свойства, ибо было подобно некой твердыне посреди океана или крепкой цитадели, воздвигнутой среди обдуваемых ветром голых скал, — в нём были обособленность и добротность, сулящие покой после длительного пути по зыбкой, уходящей из-под ног почве. Пока Александр Модестович рассказывал в подробностях о своих скитаниях от альфы до омеги — от Александра Модестовича до Ольги (не упустив случая вплести в ткань повествования и яркую ниточку Аверьяна Минича, Мармитона, будущего тестя; не преминул заметить и о внезапном, довольно странном исчезновении корчмаря), — прогорели свечи. Рассказ Ольги был несравненно короче и сводился по существу к двум эпизодам: как мосье Пшебыльский, сказавшись, что послан молодым барином, похитил Ольгу из корчмы, и как Ольга в Смоленске, мельком увидев Александра Модестовича из окна и вновь потеряв его, впала в совершенное отчаяние, так что белый свет ей показался с овчинку. Обо всём остальном времени Ольге нечего было рассказывать, ибо она почти не выходила из кареты и изучила в кузове её и возненавидела каждый обойный гвоздик, каждую царапинку на кожаной обивке, а к мягкому сиденью, на коем проводила дни и ночи, питала те же чувства, что питает галерник к своей скамье. Пшебыльский не позволял Ольге выглядывать в окна и следил, чтобы шторки всегда были плотно задвинуты; он объяснял это тем, что прятал Ольгу от лихого глаза; и эти меры, несомненно, имели под собой основания — лихие мародёрские глаза так и шастали по окнам кареты, и мосье приходилось иной раз изрядно понервничать, доказывая всякому сброду, что везёт для штаба князя Юзефа Понятовского секретные карты. Каждый вечер пан Пшебыльский признавался Ольге в любви; по два раза на дню говорил, что красивая женщина — богатство нации; пытался убедить, что юный барин либо давно благоденствует в Петербурге, либо его уже нет в живых, что он никак не мог оказаться в Смоленске, и Ольга обозналась, и лгал, и лгал... Он лгал так настойчиво, так живо, с такой убеждённостью в собственных словах, так основательно и связно, что бедная Ольга однажды действительно усомнилась, не пригрезился ли ей тот, о ком она ежечасно мечтала и чей образ, дабы не забыть, она то и дело воспроизводила в памяти. И Ольге порой начинало казаться, что Александр Модестович забыл её, простую корчмарку, с коей провёл, убивая провинциальную скуку, несколько дней, и что пан Пшебыльский говорит ей правду, но её пугали пуще смерти такие мысли, и она гнала их прочь; ей также казалось временами, что Пшебыльский чист и искренен — с такой неподдельной любовью глядел он на неё, с такой пылкостью выражал чувства, с такой трогательностью заботился о ней: чтоб она вовремя поела, чтоб её не сильно трясло дорогой, чтоб не донимали сквозняки и прочем. Образ честного кавалера не очень-то соответствовал сложившемуся уже образу мосье; особенно это несоответствие бросалось в глаза в начале пути, — что-то было не так, замечала Ольга, — но постепенно привыкала, и то, что было действительно не так, потихоньку как бы стиралось. Пан Пшебыльский был педант, а педанты, как известно, многого добиваются со своими внутренней организованностью, неукоснительностью, последовательностью. Быть может, со временем мосье сумел бы добиться и руки Ольги, не заступи ему путь Александр Модестович, тоже, кстати, немного педант, как всякий учёный-медик...