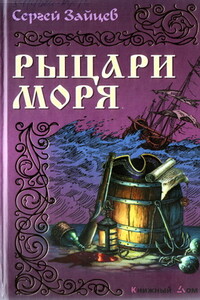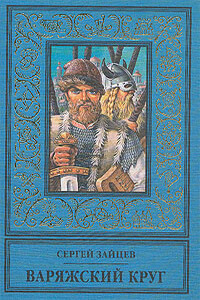— Шагай, шагай, панок, не ерепенься, — ворчал Черевичник, хотя и беззлобно.
Пана Пшебыльского, развязав ему прежде руки, заперли до утра в каком-то чулане. Ольгин багаж, состоящий лишь из небольшой осиновой коробейки да ларца с портретом матери, внесли в спальню, по-видимому, некогда очень уютную, а теперь обретшую довольно унылый вид — с горкой хлама, наваленной у двери, с тенётами по углам, с выцветшими бумажными шпалерами, хранящими следы от картин и образов, с потресканным сероватым потолком, украшенным лепкой, какая пришла к этому времени в совершенно негодное состояние. Должно быть, дела у Аршинова складывались не очень гладко, что он не мог позволить себе отремонтировать квартиру. Однако дорогой фигурный паркет в спальне, а также широкая дубовая кровать с бархатным балдахином (правда, ветхим) и четырьмя болванами по углам свидетельствовали о том, что купец знавал и лучшие времена.
— Наша роскошь глаз не застит, — молвил Черевичник, оставляя подсвечник на коробейке. — Зато и дышится вольней. Христос с вами, дети! Не печальтесь ни о чём...
И ушёл довольный, бормоча что-то себе в усы.
Александр Модестович с Ольгой остались одни. Ольга вздохнула и вдруг зарумянилась; не умея иначе скрыть смущения, отвернулась, отошла к окну, потом, как бы вспомнив о чём-то, порхнула к коробейке, подняла крышку. Оглянулась на Александра Модестовича, достала образок... Торопясь, зашептала слова молитвы, да запнулась на середине, смолкла; сотворила крестное знамение и уж не знала, куда девать руки, теребила оборки платья.
Когда Александр Модестович обнял её, она вздрогнула, повернулась, взглянула на него счастливыми глазами и, тут же потупив взор, тихо прильнула к его груди. Волнение её улеглось. Так они стояли с минуту, веря и не веря в благополучное воссоединение после долгой разлуки, наслаждаясь близостью друг друга и более не сомневаясь, что путь их друг к другу уже закончился, что закончились и все их злоключения и суета, что судьба не готовит более сюрпризов, что путь их отныне будет прям — путь на утреннюю звезду, которая светит прекрасно, и уж не будет более ни войны, ни смерти, ибо и то и другое канет в небытие вместе со всем мировым злом, и мировой завистью, и глупостью, и обманом, и коварством, вместе со всем тем, что не приемлет истинно любящее сердце, что не подпадает под знак добродетели... В объятиях друг друга они будто грезили. И уж были они вовсе не в Москве, не в чужом пустом доме с пыльными углами, а далеко-далеко, на берегу речки с зеркальной изумрудной гладью, возле шумящей плотины. И не образок был у них в руках; сам Бог спустился с небес и наполнил благодатью любящие сердца и узами верности скрепил их нежные души. То, ради чего они жили, — пришло. И им открылся новый источник, и только испив из него, они и начали жить. Они опустились в вересковник, и уста их слились. С груди Ольги тяжело скользнуло монисто, покатились отброшенные браслеты. Дыхание её — жаркое, трепетное — вдруг обратилось в стон. Задрожали руки, а губы, мягкие и бархатные, как крылья ангела, стали вратами в рай. Тут вересковник обратился в кущи райские, запели птицы сладкими голосами; ветерок — благоухающий фимиам — повеял из сада, и ласковый голос, слышимый только сердцем, пропел слова о любви, — то был голос Бога, чистый и прозрачный, как голос флейты, тёплый, как солнечный луч. Ланиты, пышущие жаром, вдруг оросились слезами. Это, кажется, были слёзы восторга. Александр Модестович открыл глаза и увидел, как мерцает свет на лице у Ольги, как блуждает улыбка у неё по устам, и поразился взору её — невидящему, зачарованному, обращённому в себя взору жрицы. Александр Модестович с замиранием сердца заглянул ей в глаза и увидел там начало Вселенной, и в начале начал — Еву-прародительницу, вечную и прекрасную, одновременно мудрую и легкомысленную, лёгкую, как бабочка, и носящую во чреве первое дитя, обласканную Богом и искушённую змием, Еву-невесту, Еву-жену, Еву мечтающую и скорбящую, Еву любящую. С восхитительной, божественной, невинной улыбкой Ева повторила свой грех, надкусила прельстившее её яблоко, и взгляд её исполнился любви; затем протянула яблоко ему, и Александр Модестович отведал запретного — оно было неожиданно сладким... И спала пелена у него с глаз, и он увидел, сколь прекрасна она — его Ева, его Ольга...