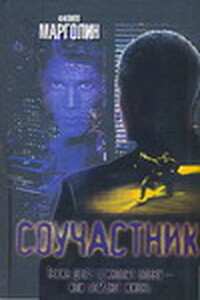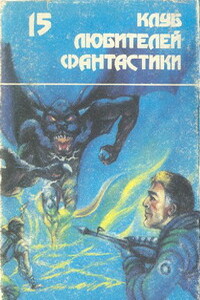Паук - страница 50
Он еще ни разу не видел таких личинок. Они кишели по всему компосту, гниющему конскому навозу, картофельным очисткам, травяной сечке и костяной муке, кишели, копошились эти мелкие округлые черные твари, и отец, почесывая голову, должно быть, думал (я продолжал наблюдать из-за сарая), что за насекомые отложили яички так поздно — но потом, видимо, понял, что создаваемого гниением тепла было достаточно для выведения этих тварей и жуков, наверно, думал он, жуков. Но у какого английского жука такие личинки? Я видел, как он взял одну и стал рассматривать, держа на кончике пальца: гладкую, толстую, мягкую, выпуклую, и пока она извивалась там, видимо, ощутил, как ее слизь смочила землю на пальце, поэтому вытер его о брюки, а потом снял еще один навильник. Бесчисленные черные личинки закишели снова, и он понял, что ими заражена вся куча. Я видел, как отец, опершись на вилы, хмуро глядел на свой компост, но пока он размышлял, как спасти огород от паразитов, личинки почувствовали зимний холод, их движения замедлились, и они стали гибнуть. Тут я увидел, как отец вдруг напрягся и попятился, подняв вилы к груди, словно для защиты — глаза его забегали, будто в ужасе, паническом ужасе, и я понял, в чем дело, понял, что он ощутил нечто, пронесшееся мимо него.
Я не шевелился, не дышал. Отец вздрогнул, бросил вилы и пошел к сараю — но сарай начал сотрясаться (уже темнело), как, должно быть, сотрясался в ту ночь, когда он спаривался с Хилдой в кресле, и мать обнаружила их. Тут пошел дождь, и отец с искаженным от ужаса лицом попятился от сарая по тропке, а сарай сотрясался на фундаменте в десять раз сильнее, чем когда Хилда сидела, развалясь, в кресле, а он с расстегнутыми брюками стоял коленями на краю сиденья, и его тонкий пенис торчал между пуговицами. Это была пародия, мрачное шаржирование того спектакля, который, должно быть, видела мать в ту ночь, когда была убита, и не успел отец дойти до калитки, как услышал отвратительное пыхтение и стоны Хилды от удовольствия, теперь воздух был уже насыщен той жуткой черной энергией, и отец побежал, я смотрел, как он разогнал велосипед по тропке и вскочил на него, будто за ним гнались черти ада, только после этого я влез через забор на участок и принялся кричать, подпрыгивать, превращая почву в грязь, а сумерки тем временем быстро сгущались.
Я был там в следующее воскресенье, когда отец уничтожал компостную кучу. Пришел через Шифер, поднялся по склону позади участков и, прячась за сараями, пробрался к участку Бэгшоу. Отец не бездельничал; всю неделю он приезжал после работы, рассыпал мульчу, чтобы по весне жуки не добрались до картошки, собирал черенки и сухой бурьян, на которых могли быть скопления личинок. Но воскресенье отвел для сжигания компоста и уничтожения личинок в куче, я видел, как он выкопал неглубокую яму (нет нужды говорить, что в дальней от могилы матери стороне участка), положил на дно растопку, смятые газеты, щепки и несколько старых досок, которые хранил под брезентом за сараем всю зиму. Вскоре появилось сильное пламя, я ощущал его жар в своем укрытии, и отец начал собирать вилами огородный мусор, большей частью сырой, и от костра повалил сильный дым. Но когда он добавил первые навильники компоста, дым так погустел, что я видел отца лишь тенью, ходившей взад-вперед, бравшей компост на вилы и бросавшей его в огонь, и мне вспомнилась картинка с изображением ада, которую я когда-то видел, что-то вроде пещеры с мокрыми стенами, с густым черным дымом, поднимавшимся откуда-то снизу, а в дыму стоял черт с вилами, довольно похожими на отцовские, задирая в темноте длинный колючий хвост. Компост, хоть и сырой, все-таки горел, по крайней мере тлел, запах навоза и гнилых овощей был таким отвратительным, что я вынужден был, крадучись, отойти назад, пройти за сараями к Шиферу, а оттуда направился к реке. Даже снизу, от «Сапожника», я видел дым, поднимавшийся в серое холодное небо длинным тонким столбом, чем выше, тем больше клонившимся к западу и в конце концов уплывавший, рассеиваясь, к заходившему солнцу.