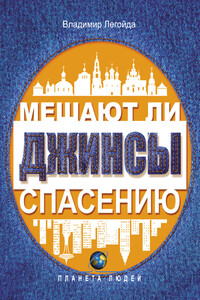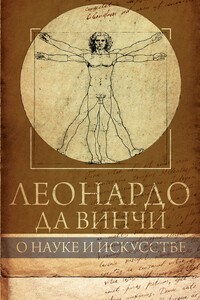Так что надо исполнять то послушание, которое тебе дано. И если ты точно опишешь какую-то часть мира, если передашь тот эйдос, который находится на Небе, то уже сделаешь благое дело. А если начнешь поучать, только все испортишь.
Я могу обсуждать любую критику. Но когда я чувствую, что человек пишет о себе, я сразу отключаюсь. Есть несколько действительно объективных литературных критиков, с которыми я не то чтобы дружу – критики вообще стараются не дружить, и это правильно… Но я понимаю: вот здесь он меня ущучил по делу, здесь у меня ошибка. Не могу сказать, что я этому рад, но я это признаю. И это часто бывает. У меня уши всегда открыты.
Конечно, иногда признавать критику тяжело. Особенно в юности. В юности это ранит. Но в зрелом возрасте, когда воспринимаешь то, что ты делаешь, как работу для Бога, ты и критику воспринимаешь как нашу общую работу для Него. И я думаю: «Да, вот здесь я не докрутил».
А вообще я довольно строгий критик по отношению к самому себе. И когда мне говорят: «Это же смешно, почитай», я отвечаю: «Нет, это не смешно. Это значит, что я чего-то не доделал». Если человек размахивает руками и говорит: «О чем “Лавр”? Он классно написан, но о чем это все?» – значит, это моя вина. Потому что писатель – он создает не только само произведение, но и особые кнопки на нем, чтобы читатель нажимал на те из них, которые ему нужны. А если он ни одной кнопки не находит, значит, писатель – не профессионал.
Считается, что с возрастом приходит понимание того, что многое в жизни не важно. Но понимание это автоматически не претворяется в дела. Все зависит от опыта и от того, насколько ты серьезно представляешь себе эсхатологическое будущее. У меня лет в 14–16 был сильный кризис, который привел меня к вере. Понимаете, это было не абстрактное представление, что я умру. Многие люди выносят за скобки вот это «я умру» – и действуют в скобках: машину покупают, дом строят… Мне тогда это не удалось. У меня в романе «Брисбен» мальчик бросает музыкальную школу. Дед спрашивает его: «Почему ты бросил?» А он отвечает: «Потому что я умру». Дед ведет его к священнику, и тот говорит: «Ты совершенно правильно рассуждаешь. Если ты умрешь вот так, бесповоротно, так зачем тебе музыкальная школа? А если ты не умрешь? Если в жизнь вечную направишься, то музыка очень нужна». Мальчик спрашивает: «А что, музыка – это вечность?» И священник отвечает: «Нет, музыка ведет к вечности».
Я смерти не боюсь. Я боюсь бессмысленности.
У меня был период язычества, как я его называю, детский. Я просто просил кого-то, неизвестно кого, чтобы мне помогли, причем во множественном числе: «Помогите!» Потом жизнь моя изменилась, но я не смог вынести за скобки, что я умру… Меня ведь не смерть пугала. Меня пугала бессмысленность всех действий. Как и сейчас, когда чувствуешь ее приближение.
Оно во всем. И в том, что умирают родные, друзья… Понимаете, мы уже перешли в тот возраст, когда дыхание смерти – оно с каждым годом все более ощутимо.
Дмитрий Сергеевич Лихачев не раз говорил: «Всегда думайте о старости. В старости хочется быть чистым». Ведь исправить ничего нельзя – и с этим и жить больно, и уходить больно. И та боль, которую человек испытывает в старости из-за того, что ничего уже не исправить, – она невыносима. И я, входя сейчас в этот возраст, вспоминаю какие-то вещи, которые вызывают у меня слезы, и меня изумляет моя юношеская черствость и отсутствие понимания, что я доставил кому-то боль.
Я помню такие случаи – этих людей уже нет или они исчезли куда-то. И я мысленно прошу у них прощения, но это же так просто не действует. Допустим, на исповеди мне отпускаются эти грехи. Но я помню одну проповедь митрополита Сурожского Антония о белом офицере, который во время боя по трагической случайности застрелил свою жену. Он говорил: «Мне отпустили этот грех, но легче мне не стало». И тогда владыка Антоний сказал: «Вот вы просили прощения у Бога, которого вы не убивали. А может быть, попросите прощения у жены?» И тот попросил прощения у жены – и сказал: «Да, теперь мне стало легче».
Вот и я мысленно пытаюсь просить прощения у тех, кого обидел. Я помню свое детское бездушие, когда при мне топтали человека – по счастью, не физически, но морально, – и я его не только не защитил, но мне это казалось смешным и забавным, и я оставался зрителем. Вот за такие вещи мне очень стыдно.