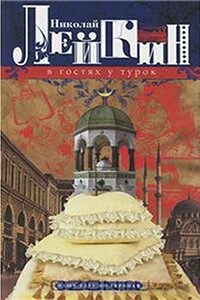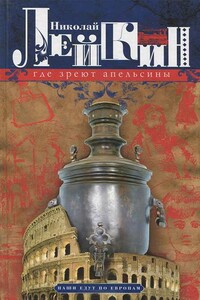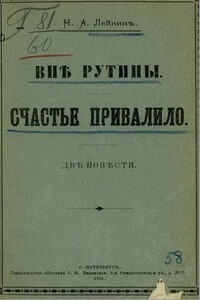— Кто тутъ есть изъ стариковъ? Ахъ, да… Алексѣй! Ты можешь… Сейчасъ генеральша Вывертова, выходя изъ кареты, поскользнулась на ступенькѣ и чуть не упала. Посыпь-ка песочкомъ ступеньки у паперти. Мы ихъ и забыли посыпать.
— Слушаю-съ, Наумъ Иванычъ… — встрепенулся старикъ съ козлиной бородкой. — Песокъ въ оградѣ?
— Нѣтъ. Ты обойди притворъ-то. Онъ въ уголкѣ, съ боку около притвора приготовленъ. А вы что тутъ бунтуете? — угрожающе обратился онъ къ старухамъ-нищимъ. — Сейчасъ старостинъ племянникъ жаловался, что кричите, бранитесь. Здѣсь церковная паперть, а не баня… Храмъ…
— Видите, видите. Андронычъ правду говорилъ, что нажалуется старостинъ племянникъ, — сказала старуха въ черномъ суконномъ платкѣ другимъ старухамъ. — Двугривенный дѣлили, Наумъ Иванычъ, и не могли подѣлить поровну — вотъ изъ-за чего вышло.
Но сторожъ Наумъ юркнулъ уже въ церковь, а старикъ Алексѣй съ козлиной бородкой, держа въ рукѣ корзинку, съ усердіемъ сорилъ пескомъ по ступенькамъ паперти.
Входящіе въ церковь богомольцы вообще подавали очень мало нищимъ. Нищіе ждали выходящихъ, по окончаніи службы богомольцевъ. Ранняя обѣдня по подачѣ милостыни считается лучше поздней. За ранней обѣдней бываетъ простой народъ и подаетъ больше. Къ поздней обѣднѣ нѣкоторые нищіе даже умышленно приходятъ къ концу и не становятся на паперть, а въ началѣ обѣдни бродятъ около церкви или около ограды и, встрѣтясь съ купцами или купчихами, идущими къ обѣднѣ, только «просительно» раскланиваются съ ними, бормоча слова въ родѣ «въ здравіе и благоденствіе», «со чадами, во спасеніе на вѣки нерушимо», при чемъ, если знаютъ ихъ имена, то величаютъ по имени и отчеству. Средней руки купцы и купчихи это очень любятъ и всегда суютъ такимъ нищимъ трехкопѣечники или пятачки. Такое прошеніе милостыни нѣсколько опасно, потому что около церкви во время обѣдни всегда прохаживается городовой, могущій заарестовать получившихъ милостыню, но за то оно выгодно. Городовые, впрочемъ, не взирая даже на приказъ, рѣдко заарестовываютъ нищихъ около церкви. Они съ своей народной точки зрѣнія смотрятъ на этихъ нищихъ, какъ на нѣчто естественное, обычное, исконнорусское и иногда сами суютъ нищему копѣйку.
Въ притворъ вошла женщина въ нагольномъ полушубкѣ, пестромъ платкѣ на головѣ, завязанномъ концами назадъ, и съ груднымъ ребенкомъ. Старухи нищія приняли ее сначала за богомолку, идущую въ церковь, но когда она встала въ рядъ съ ними, онѣ загалдѣли, обращаясь къ ней:
— Ты что это? Никакъ милостыню просить? Уходи, уходи отсюда! Здѣсь нельзя.
— Отчего-же нельзя, миленькія, коли вы просите — просительно заговорила женщина.
— Мы здѣсь свои. Мы туточныя… Мы здѣшнія прихожанки. А ты что такое? Ты чужая, — стала ей доказывать сморщенная старушенка въ черномъ чепчикѣ на заячьемъ мѣху, носящая названіе чиновницы, потому что у ней когда-то сынъ былъ паспортистомъ въ участкѣ. — Ну, что-же стала? Уходи честью.
— Я только малость, старушки. Я послѣдняя встану, — упрямилась женщина.
— Уходи, уходи, коли тебя честью просятъ! — завопили снова старухи. — Уходи, а то вѣдь и городовому отдадимъ.
Женщина попятилась, но не уходила.
— Зачъмъ-же такую обиду супротивъ меня? Я такая-же нищенка, — сказала она.
— Такая да не такая. Откуда ты выискалась?
— Изъ-за Трухмальныхъ воротъ. Я тамъ въ родильномъ была. Вотъ ребеночекъ.
— Ну, такъ къ Трухмальнымъ воротамъ и иди. А здѣсь нечего туточнымъ старушкамъ мѣшать, — доказывала ей чиновница. — Вишь, какая выискалась. Туда-же съ ребенкомъ!
— Да еще ребенокъ-ли у ней? Можетъ быть, полѣно? — дѣлала догадку старуха въ капорѣ.
— А вотъ пусть Андронычъ посмотритъ, — подхватили другія старухи. — Андронычъ, вотъ тутъ чужая пришла и руку протягиваетъ.
Отъ дверей отдѣлился николаевскій солдатъ Андронычъ и подошелъ къ женщинѣ въ полушубкѣ.
— Ты тутъ чего? — спросилъ онъ.
— Святую милостыньку, Христа ради.
— Ну, такъ и проси около церкви. А здѣсь на паперти нельзя. Уходи, уходи.
— Да что у васъ откуплено, что-ли?
— А хоть-бы и откуплено, но это дѣло до тебя не касающееся. Уходи. Чужой доходъ нечего отбивать.
— Эки злюки! Вотъ злюки-то! Совсѣмъ цѣпные псы. Право, цѣпные псы.