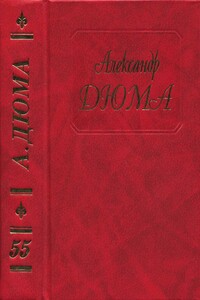Слова поэта>{118} «Я поверю, что он бесконечно прекрасен, если это мне скажут родные глаза», не вполне справедливы, если речь идет о глазах любимой женщины. В некотором смысле, любовь — как бы ни были великолепны другие ее дары даже в области той же поэзии — отнимает у нас поэтический взгляд на природу. Для влюбленного земля лишь «ковер для прекрасных детских ножек» его возлюбленной, природа — лишь «ее храм». Любовь, которая открывает нам столько глубоких психологических истин, делает нас невосприимчивыми к поэзии в природе[77], ибо пробуждает в нас эго- [137] изм (любовь стоит на самой высокой ступени разнообразных видов эгоизма, но остается, тем не менее, чувством эгоистическим), мешающий возникновению поэтических впечатлений. Восхищение же мыслью, напротив, открывает нам красоту на каждом шагу, потому что каждую минуту пробуждает стремление к ней. Люди посредственные обыкновенно считают, что позволить вызвавшим восхищение книгам направлять нас таким образом, значит отнять у нашей способности суждения некоторую долю ее независимости. «Какая нам разница, что чувствует Рёскин: чувствуйте сами!» Такое мнение основывается на психологической ошибке, очевидной для тех, кто, приняв для себя духовную дисциплину, ощущает, что их умение понимать и чувствовать от этого бесконечно возросло, а критический взгляд отнюдь не оказался парализован. Мы как бы пребываем в такие моменты в состоянии благодати, когда все наши способности, в том числе и критические, обостряются. Поэтому такое добровольное подчинение есть начало свободы. Нет лучшего способа прийти к осмыслению того, что сам чувствуешь, чем [138] попробовать мысленно испытать впечатление, пережитое великим писателем. В этом глубоком усилии мы проясняем для себя вместе с его мыслью и свою собственную. В жизни мы свободны, при том что у нас есть определенные цели: софизм о свободе безразличия давным-давно разоблачен. Софизму не менее наивному повинуются, сами того не понимая, писатели, которые изгоняют из своего сознания все авторитеты, считая, что таким образом избавляются от чуждого влияния, дабы быть вполне уверенными в абсолютной своей оригинальности. На самом же деле, мы лишь тогда в полной мере располагаем всей силой собственного ума, когда не ставим себе задачу создать непременно независимое произведение, когда не выбираем произвольно цель нашего усилия. Тема романиста, видение поэта, истина философа заявляют о себе словно некая неизбежность, как бы внешняя по отношению к их мысли. И только подчинив свой ум передаче этого видения, приближению к этой истине, художник становится действительно самим собой.
Но, повествуя об этой страсти, слегка фальшивой поначалу и такой глубокой впоследствии, которую я питал к творчеству Рёскина, я говорю по подсказке памяти, которая удержала только факты, «но подлинных глубин былого не спасла». Только когда какие-то периоды нашей жизни закрываются для нас навсегда и даже в редкие часы силы и свободы нам не дано украдкой приоткрыть туда двери, когда мы не можем даже на миг вернуться в то состояние, в котором некогда так долго пребывали, — тогда только мы восстаем против [139] того, чтобы все это умирало безвозвратно. Мы не можем больше воспевать такое прошлое, ибо забыли в свое время мудрое предостережение Гёте, что поэзия есть только в тех вещах, которые мы еще способны чувствовать. Но, не будучи в состоянии пробудить огонь минувшего, мы жаждем хотя бы собрать его пепел. Поскольку мы не властны воскресить былое, располагая лишь остывшей памятью о нем — памятью фактов, которая говорит: «Ты был таким», не позволяя снова таким стать, которая подтверждает для нас реальность потерянного рая, вместо того чтобы вернуть нам его в воспоминании, — мы пытаемся хотя бы описать его и составить о нем некое знание. Только теперь, когда Рёскин уже далеко от нас, мы переводим его книги и стараемся запечатлеть в как можно более похожем образе черты его мысли. Поэтому вам не увидеть живых проявлений нашей веры или нашей любви, перед вами может лишь промелькнуть кое-где наша жалость холодная и торопливая, занятая тайком, как Фиванская дева