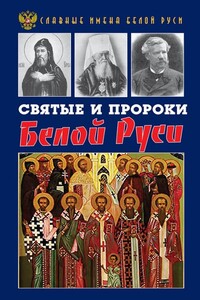Андрей Ефимович с глубокой горечью сознавал, что этой беде он помочь не может; его вмешательство вызвало бы отставку, а жить без людей, без труда он не мог. И старался по мере сил помогать отдельным лицам, наиболее достойным. Метод его был незамысловат: лечить так, чтобы не повредить здоровью, какими-нибудь нейтральными снадобьями, и, подержав для видимости человека месяца два, выписать его как здорового. Авторитет Андрея Ефимовича был настолько велик, что никто из полицейских не посмел бы ему перечить или заподозрить его в недобросовестности. Кроме того, — что скажет Европа? Можно наплевать на своих, но с чужими приходится считаться — мы ведь тоже европейцы.
Когда Андрей Ефимович говорил об успехе советской психиатрии, он добродушно улыбался, — улыбка его была обаятельной и обезоруживающей, — и как-то однажды он сказал:
— Что ж, из чеховской палаты № 6 мы, пожалуй, перешли в палату № 7, более благоустроенную.
«И более страшную, — невольно подумал он и вспомнил американскую тюрьму Синг, со всем современным комфортом, — можно ли это считать прогрессом социальной справедливости, морали?»
Палата № 7 была несравненно комфортабельнее палаты № 6, но всё же Андрей Ефимович, постоянно читавший и перечитывавший Чехова, всегда находил, что и сегодня можно было с полным правом повторить чеховские слова как оценку нашей действительности:
Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли…
Разумеется, обстановка изменилась, внешне всё прилично — чисто, порядок. Однако учреждение это было еще в большей степени безнравственным и вредным, так как здесь не лечили больных, а калечили, и больницу превратили в тюрьму.
Андрей Ефимович Нежевский, академик и главный психиатр, видел нечто знаменательное в том, что он является тезкой чеховского доктора из «Палаты № 6» и что их мысли и переживания во многом совпадают. С большой душевной болью перечитывал он чеховские строки:
Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право.
Он мог бы уйти с работы, — возраст вполне позволял ему это, персональная пенсия обеспечила бы его несложные нужды, — но Андрей Ефимович не мог не работать. Он знал, что одиночество в большой и неуютной квартире, «черные мысли, как мухи» (слова из романса, который он пел в студенческие годы) быстро сведут его в могилу — в лучшем случае, а в худшем — приведут его в отчаяние, куда-то на самый край ночи.
И он решил примириться с теорией «малых дел», которую зло высмеивал в юности. Ничего не поделаешь, — у старости другие требования, другие законы. Андрею Ефимовичу казалось, что если ему удастся ежегодно спасать несколько человек от принудительного «лечения», это будет не меньше, чем спасти их от каторги, тоже усовершенствованной, но не менее тяжелой для души.
А спасти человеческую душу, может быть, и не малое дело…
С врачами Андрей Ефимович обращался небрежно, даже несколько заносчиво, не потому, что натуре его присуща была надменность, а потому, что не уважал их, не любил, как всех чиновников вообще. А медицинские чиновники казались ему особенно отвратительными, — среди них он выделял ответственных работников министерства здравоохранения, которые захлебывались от сознания собственного величия и хвастались, как истые Хлестаковы. И он снова вспоминал слова чеховского доктора:
…Сущность дела нисколько не изменилась… Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета…
И что-то страшное, невыразимое вселялось в его душу, когда он читал:
Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумястами лет позже, я был бы другим.