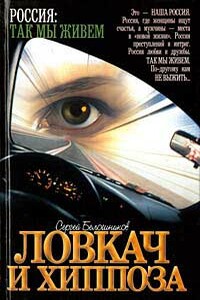— А когда вы должны выйти пойти в отпуск по графику, Виктор Эммануилыч? — поинтересовался старик.
Я улыбнулся — стараясь, чтобы улыбка вышла одновременно и жалобная, и трогательная, и несчастная… Я старался, как гладиатор на арене, изо всех сил, потому что от этого в буквальном смысле зависела вся моя жизнь.
— Ха, по графику! — с пафосом воскликнул я. — В мае еще должен был уйти, в мае. Но вы ведь помните, Сан Саныч, что у нас творилось весной и летом…
— Да-да, конечно помню… Бедлам-с был, коллега, форменный бедлам-с…
Старик пожевал седую щеточку усов. Окинул меня добродушным взглядом.
— А вы неважно выглядите, Виктор Эммануилыч, неважно…
— Что есть — то есть, Сан Саныч, — развел я руками.
— А поедете куда?
— К старикам своим хочу нагрянуть, в деревню. Под Витебск. За границу, так сказать.
— За границу, хе-хе… — Он ухмыльнулся. — Так ведь у нас теперь вроде как с белоруссами союз… Машину-то вам починили?
— К счастью, да, Сан Саныч. Вчера забрал.
— Ну, что с вами поделаешь… Да и видок у вас, Виктор Эммануилыч, прямо скажу…
— Краше в гроб кладут, — поддакнул я.
Старик вытащил из подставки ручку. Вечное перо зависло, словно принюхиваясь, куда клюнуть, над листком, исписанным моим корявым почерком. И не клюнуло. Шеф нахмурился и бросил на меня острый взгляд.
— Но! — Поднял назидательно сухонький пальчик. — На две недели не могу. Никак не могу, милейший Виктор Эммануилыч. Все понимаю, вижу все — и не могу. Людей катастрофически не хватает. Не могу.
— Но, Сан Саныч!.. — только и смог выдавить я.
— Десять дней, — строго сказал он. — Извините, коллега — но это максимум.
Я кивнул с обреченным видом, изо всех сил стараясь скрыть шальную радость.
— Жа-аль, — протянул я. — Ну, что ж поделаешь. Десять, так десять.
И вечное перо вывело на бумаге, дарующей мне жизнь, витиеватую, с росчерками и завитушками подпись.
* * *
Я, изо всех сил стараясь сдерживаться, чтобы не рвануть бегом, не торопясь спустился по ступеням на первый этаж нашей богадельни, на ходу доставая из кармана ключи от машины.
— Уже домой, Виктор Эммануилыч? А что так рано? Никак приболели, а?
За загончиком привстал с табурета наш бессменный гардеробщик и вахтер дядя Коля, заранее протягивая мой плащ.
— Ох, и не говори, дядя Коля! — я старательно изобразил на физиономии подобающую случаю мину. — Всего ломает. Грипп, наверное, начинается.
— Ну, лечитесь, лечитесь, Виктор Эммануилович. Работа — она не волк, никуда не убежит.
Я толкнул тяжелую вращающуюся дверь и очутился под моросящим дождем — на свободе!
Сзади, теперь уже в бесконечно далеком прошлом остался мой проклятый наркологический диспансер, бывший государственный, а ныне уж какой год весьма удачно вплывающий в капитализм частной клиникой на правах общества с ограниченной ответственностью (без меня вплывающий на десять дней, любезные, пока что без меня!), остался вместе с великосветскими наркоманами и гордумовскими алкашами, лысым Сан Санычем, экс-гэбешником дядей Колей, ежедневными заботами и немалыми — весьма-с! — деньгами. Я поднял воротник плаща и, улыбнувшись, завернул в соседний переулок, где прямо под окнами моего кабинета (и как это Саша его не засек, змей глазастый?!), под старыми корявыми тополями стоял мой же, еще вчера чудесным образом отремонтированный (Осанна! Осанна!), мой ненаглядный спаситель, синенький «жигуль-шестерка».
В переулке я немедленно перестал сдерживаться, эдаким молодым скоком прошустрил к машине и быстро повернул ключ в замке двери.
И вот в этот счастливый момент я внезапно услышал за своей спиной твердый, раскатисто катающий в словах букву "р" мужской голос:
— Гражданин Гольднер?
Я обмер от ужаса и моментально покрылся потом с ног до головы. Мой тщательно выстроенный, казавшийся таким надежным мирок оказался на деле картонной декорацией; он рухнул с отвратительным хрустом и время остановилось для меня навсегда. Я помедлил и с трудом, через силу повернулся на вмиг одеревеневших, негнущихся ногах.
Передо мной стояли двое высоких крепких мужчин в дешевых двубортных темно-серых плащах и незаметно-стандартных шляпах. И каменные лица-хари у них были, словно отштампованные одной грубой формой — серые, угрюмо-безликие и явно не предвещавшие для меня ничего хорошего.