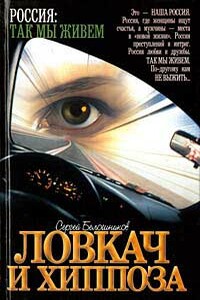Я поднялась и поцеловала маму в щеку.
— Очень вкусно, ма…
По слабо освещенному, казавшемуся еще выше от бесконечно высоких книжных шкафов многоколенчатому коридору я понуро добрела до своей комнаты. До бывшей своей комнаты. Светелки. Хотя, впрочем, она в этом доме так и осталась навсегда моей. Комнатой единственной и ненаглядной дочки и внучки.
Я достала из шкафа несколько маленьких подушек-думок и пледы. Быстро соорудила из них на диване уютную нору и с ногами забралась в нее. Поставила рядом с собой на колченогий барочный столик вымытую Дашенькой до стерильной чистоты медную пепельницу.
Я курила и смотрела на противоположную от изголовья дивана стенку. Там, в тонкой деревянной рамке под стеклом висел большой цветной фотопортрет в рост. А на портрете смеялась прямо в объектив длинноногая девчонка с выгоревшими на солнце прямыми волосами. Это была я, собственной персоной.
На портрете мне лет девятнадцать, не более. Нет, девятнадцати мне еще тогда не стукнуло: день рождения должен был накатиться через полтора месяца, в конце лета. Значит, восемнадцать с хвостиком. Ранний период эпохи мужчин. Пицунда, Дом творчества Союза кинематографистов, постоянная жара за тридцать, парное море, отъезд мамы и папы на неделю раньше срока (какие-то неинтересные для меня питерские семейные проблемы), восхитительное одиночество, уйма карманных денег и первый выпитый на законных основаниях — я уже совершеннолетняя! — коктейль с Martini.
А еще: молодые мускулистые животные в маленьких узких плавках; томление, перетекающее в низ живота от раскаленной пляжной гальки; постоянный треугольник паруса на черте горизонта; сошедший с ума сорокатрехлетний (дедушка!) маститый лысоватый московский кинооператор, вдрызг разругавшийся из-за моей юной персоны со скоропостижно уехавшей после этого домой дебелой супругой; его ежедневные ритуальные пляски вокруг меня с фотоаппаратом наготове — щелк-щелк, — летят в урну для мусора упаковки из-под пленки Kodak; внезапные слезы на его плохо выбритых щеках в полумраке комнаты, под шелест ночного прибоя после моего мстительного отказа (почему отказала-то, дурища?) выйти за него замуж и полное ощущение вседозволенности и безнаказанности.
Оператор был влюблен по-настоящему, теперь-то я это понимаю. Но, увы, оператор канул в неизвестность и вместо него — ожидание принца. Вместо принца — мой бывший муж-урод, которого я через пол-года после свадьбы застукала в гостиничной постели (короткая совместная поездка на каникулы в Таллин) с пятнадцатилетним прыщавым сопляком. Сейчас, по весьма достоверным слухам, мой голубой принц держит на пару с каким-то пуэрториканцем (занятие как раз по нему) маленький sex-shop в каком-то бандитском районе L.A.
Я погасила догоревшую до фильтра сигарету и снова посмотрела на свой замечательный портрет.
Я была снята беднягой-оператором как раз в тот момент, когда повернулась к камере — волосы летят, плечи углом, мини-юбки, считай и вовсе нет. И улыбка до ушей.
— Вот овца-то беззаботная, прости Господи, — пробормотала я, глядя на свою глупую и счастливую улыбку.
В дверь осторожно постучали.
— Входи, ма, — сказала я.
Мама вошла и остановилась в дверях:
— Я тебе не помешаю, Лёля?
— Ну что ты, ма. Конечно же нет.
Мама помедлив, опустилась в кресло, стараясь не помять складки длинного платья. Помолчала.
— Дай, пожалуйста, и мне сигаретку, — сказала она.
Я удивленно покосилась на нее, но ничего не сказала. Протянула ей пачку и зажигалку. Мама долго разминала и так сухую американскую сигарету. Прикурила. Покачала головой. Ноги у нее и сейчас были хоть куда. И одевалась мама, не смотря на инфляцию, дефолт и смену мужей по-прежнему дорого и модно. Я в этом отношении вся в нее. В остальном — в деда. И кое в чем — в папу.
— Послушай, Лёля, — начала она не очень решительно. — Мне кажется… Мне кажется, что у тебя что-то произошло…
— У меня? — отозвалась я нехотя.
— Да… Впрочем, я не знаю… В конце концов — ты человек взрослый, самостоятельный и я не вправе требовать от тебя исповеди. Но…
Она замолчала.
— Так что — «но»? — спросила я сварливо, усаживаясь по-турецки на диване.