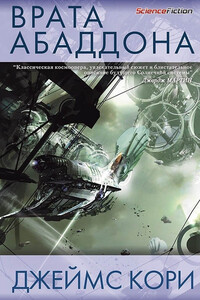– Ого, – сказал Миллер. – Это она зря.
– Постойте, – позвал Джим, но Танака уже двигалась вперед.
Он последовал за ней. Внутришлемный экран при поднятом щитке не работал. Скафандр гудком предупредил, что заряд маневровых сопел наполовину израсходован, и, если он не хочет зависнуть в пустоте, пора возвращаться. При других обстоятельствах он счел бы это важным.
То, впереди, выглядело знакомым: голубой отлив металла и сходство с насекомым. На полметра выше Танаки, а она была не из малорослых. Двигалось оно мелкими рывками, словно шестеренка часов перескакивала на один зубец. Как только Джим догадался присмотреться, такие же оказались встроены в стены шахты так плотно, что он принял их за рельеф стен.
– Не проявляйте агрессии, – предупредил Джим.
– Я впервые вижу здесь что-то похожее на часового, – гулко, через наружный динамик, ответила Танака. – Отступать невозможно.
Она шевельнулась, и тварь сдвинулась, загораживая ей дорогу. Несимметричные щеки Танаки еще сильней перекосил хищный оскал. Миллер подался к ней, с изумлением на лице заглянул ей за щиток.
– Она и вправду готова вас всех прикончить, а?
– Дайте я попробую, – заговорил Джим. – Я здесь. Я открыл станцию. Дайте я хоть попытаюсь его отключить.
Ствол в рукаве Танаки закрылся, открылся, снова закрылся. Подбородком она указала ему вперед.
– Миллер?
Детектив пожал плечами: «Погоди минутку, посмотрю, что тут можно сделать».
Джима накрыло то же странное чувство. Будто сгибаешь фантомную конечность – делаешь что-то, но того, с чем делаешь, не существует. И опять судорога в животе, сильнее прежней. Ближе к груди. Боль разрослась и быстро погасла.
– Теперь попробуйте, – сказал он.
Танака сдвинулась в сторону, а часовой не шелохнулся. Она прошла мимо – он не мешал. Танака указала Терезе вперед и, пока девочка проходила, следила за часовым, как будто дожидаясь предлога их защитить. Джим прошел последним. Он мелко, часто дышал. Ног ниже коленей уже не чувствовал.
– Время истекает по многим параметрам, – заметил Миллер. – Какую бы вы ни вели игру, ее пора кончать.
– Спасибо, – пробурчал Джим, – за совет и поддержку.
Свет впереди из голубого стал белым. Джим включил маневровые и вылетел в камеру – стометровую сферу. В нее – темными точками на фоне сияния – вливались и другие такие же проходы. Со светом было что-то не так: он оказался осязаемо густым, подвижным, живым. У Джима от него мурашки пошли по коже.
На противоположной стороне сферы темные волокна свились в огромную сеть. Как будто с пола и с потолка пещеры проросли сталактиты и сталагмиты и сошлись в одной точке. Или как будто раскинул крылья огромный темный ангел.
В центре сети стояло нечто величиной с человека. Человек, руки раскинуты как у распятого. Толстые жгуты волокон врастали ему в бока, в руки, в ноги. На нем все еще была синяя лаконская форма, только ноги босые.
Джим узнал лицо издалека, раньше, чем рассмотрел черты.
– Папа? – сказала Тереза.
Холден умирал у нее на глазах с той минуты, как они вошли на станцию.
Что с ним плохо, она увидела сразу. Она его знала много лет, еще по зданию Государственного совета, где он представлялся ей опасной, смутно угрожающей фигурой. Потом по кораблю, где он стал как будто меньше, мягче и более хрупким. Она изучила его настроения, знала, как он прикрывает шутками осаждающую его тьму, вечную свою уязвимость – и силу. Она была уверена: он не знал, что она знает, и это хорошо.
Но отца он ей никогда не напоминал. До сих пор.
Она не сумела бы назвать это по имени. Сразу не сумела бы. Ей самой приходилось бороться с вторгающимися в голову мыслями. С голосом мальчика, звучавшим прямо за спиной и говорившим на незнакомом, но понятном языке. С жутким хором, уговаривавшим отдать себя. С женщиной, отдавшей ребенка на усыновление и разрывавшейся теперь между чувством вины и облегчением. И снова с мальчиком-корейцем, все оплакивавшим сестренку. Требовалось постоянное усилие, чтобы не слушать, не ввязываться, удержать себя в себе, и поначалу она думала, что Джим занят тем же. Она час за часом следовала за полковником Танакой, кружила по пещерному лабиринту станции, а разум искрил и ускользал. Это было как в кошмаре, от которого боишься проснуться, и усилие не давало ей заметить мелочи, выдававшие состояние Джима. Как у него менялся оттенок кожи. Как менялся взгляд. И главное, его отдельность, как будто он понемногу отслаивался от того, что ей виделось реальностью.