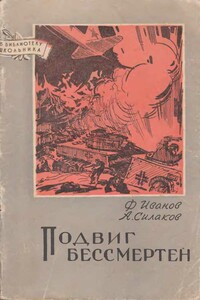Знакомясь с делами воронежских однодельцев, я наткнулся на одну весьма неприятную неожиданность. Там хотели убить девушку по фамилии Вольтер, которая вдруг объявила, что желает выйти из организации. Я сразу же подумал: "Так вот, оказывается, какие тактические разногласия были у Егорова с Шубиным. Значит, нас выдала Вольтер?.."
Через много лет я узнаю, что не Вольтер провалила организацию и что Тарасов был против ее убийства.
Следствие закончилось, и нас отправили в Бутырскую тюрьму на пересылку. Здесь нам предстояло выслушать приговор Особого Совещания, после чего стать грубой рабочей силой. Вот справка, которая хранится в моем деле:
"Врачебная справка. 9 апреля 1949 года.
Общее состояние удовлетворительное. Диагноз по-русски здоров.
Годен к физическому труду. Подпись".
Перед прочтением приговора мы с Тарасовым оказались в одной камере. Позднее мы встретились с Гаркавцевым и Черепинским. Василий Лаврентьевич Гаркавцев когда-то был ученым секретарем Воронежского университета. Взрослый человек. Автор работы о скрытой проституции в СССР, которую написал по просьбе Студенческого научного общества. Председателем этого общества был Белкин. Видимо, когда они обсуждали эту статью, то обнаружили общность взглядов и на многие другие проблемы. Семен Черепинский был студентом Воронежского университета и во время бесконечных бесед, которые велись в камере, советовал многим арестантам переключить свое внимание с политики на математику, поскольку именно ей будет принадлежать будущее.
Тарасова приговорили к десяти годам лагерей. Гаркавцева[1] и Черепинского[2] - к восьми. Меня - к семи. К семи годам был приговорен и Борис, которого, к общей нашей с Тарасовым радости, мы встретили в горьковской тюрьме. Эту тюрьму называли еще Соловьевской, по фамилии ее тогдашнего начальника.
В той же камере находился еще один наш воронежский одноделец. Василий Дмитриевич Климов[3]. Этот человек интересовал меня чрезвычайно. Именно он должен был создать группу боевиков и убить Вольтер. Климов - высокий, улыбчивый человек, но эта улыбчивость казалась мне очень суровой. Весь он словно бы принадлежал другой эпохе. Эпохе Желябова, Перовской, Халтурина. Когда я спросил Климова о Вольтер, улыбка исчезла с его лица. Он сказал, что пистолет дал осечку. Борис чуть ли не в первый день нашей встречи спросил Тарасова, почему мы так быстро провалились и почему именно нас, москвичей, арестовали первыми. Тарасов ответил загадочно. Он сказал, что теперь еще рано об этом говорить, поскольку ничего еще не закончилось.
Вскоре Тарасова, Бориса, Гаркавцева и меня отправили на этап.
По дороге простились с Борисом. Местом его дальнейшего заключения стал Унжлаг.
В кировской пересылке нас развели по разным камерам. Расставание с Гаркавцевым получилось неожиданно теплым. В моей памяти он остался именно таким, каким запомнился в те минуты: взрослым и очень печальным человеком.
Каким-то своим путем, может быть даже всегда рядом с нами, шли по этапу наши девушки - Аня Заводова[4], Аня Винокурова[5], Люся Михайлова[6].
Из кировской пересылки мой путь лежал до станции Фосфоритная, в Вятлаг.
Станция, куда меня привезли, называлась Сорда. Когда я вышел на платформу, то увидел, что она является частью огромной биржи, по которой, заросшие щетиной, темные от грязи и загара, одетые в рваную одежду, катали бревна зэки. С двух вышек за их передвижениями наблюдали часовые. По платформе ходил еще один часовой, с собакой. Воздух был необыкновенно свежим. По другую сторону железной дороги плотной стеной стоял лес. Дорога в зону была густо усыпана опилками.
Поначалу я работал землекопом на строительстве лесозавода. Мы рыли глубокий дренаж с колодцами вокруг электростанции, затем траншею для сброса дренажных вод в речку Нырмыч. Когда земляные работы закончились, работал в бригаде плотников. Здесь было полегче. Потом стал диспетчером планового отдела. Каждую ночь передавал в штаб Вятлага, что был расположен в так называемом Соцгородке, сводки. Все данные следовало передавать нарастающим итогом. Поскольку сложение итогов производил я сам, то иногда в Соцгородке обнаруживались ужасающие ошибки. Количество уложенной на бирже древесины вдруг становилось неимоверно большим или пугающе малым. Сводки принимал молодой лейтенант, у которого был вполне доброжелательный, почти приятельский голос. Он обнаружил, что виновницей всех моих ошибок является цифра "1", которая имела обыкновение, если первая в числе, или исчезать насовсем, или вдруг появляться где-нибудь внутри самого числа. Поэтому передача сводок иногда становилась похожей на игру. Каждый раз, когда я ошибался, лейтенант, посмеиваясь, спрашивал: "Израиль, опять заснул?" Я отрицал. Говорил, что просто задумался. Телефонистки, которые обеспечивали связь, смеялись в три голоса: "Заснул! Заснул!"