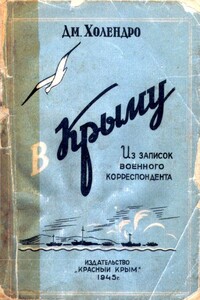Лиля подходит сбоку и хлопает какой-то бумажкой по столу.
— Что это? — переводит на нее глаза Квахадзе.
— Накладная. За пивом посылать пора.
Квахадзе долго подписывает ее беспрерывнымдлиннейшим росчерком. Лиля ест Машу глазами, скрестив руки и подперев ими грудь, высокую, как взбитые на кровати подушки.
— Соглашайся. Официанткой выгодней, — говорит Лиля. — Соглашайся, невеста.
— Посуду, — просит Маша доверчиво.
Аптекарь Борис Григорьевич из-за ее спины как бы кивает согнутым пальцем, делая Квахадзе знаки, чтобы тот не спорил с Машей.
— Нехорошо! — стонет Квахадзе, как от зубной боли. — Ну хорошо…
Не везет ему с мечтами! Лиля рвет из его рук накладную. Ну зачем она так злится! У Маши дети… Какая она невеста? Трое детей!.. Лешка, Алешка да Сережка — вот и вся Машина любовь…
За стеклами столовой, как хмельная, гуляет, качается полечка.
— Вспомнил, как это називается! — сердито грозит кулаком Квахадзе. — Кто в лес, кто по дрова!
Теперь, приходя в столовую, я видел за приоткрытой дверью посудомойки узкую спину Маши, склонившейся над раковиной. Из-под ее снующих рук вылетали на цинковый стол тарелки, и горы их росли на глазах, как в мультипликационном фильме.
Маша держала дверь приоткрытой, чтобы подглядывать в щель и не прозевать Лешку и Алешку. Они приходили к ней обедать. Сначала они ныряли за перегрродку у входа, и оттуда шипел маленький душик умывальника. А мать ставила пока на стол две тарелки, клала ложки и вилки, приносила дымящийся борщ в блестящей миске и улыбалась им, все время улыбалась, как учил Квахадзе.
Когда дети усаживались за стол, под картиной Айвазовского, в зале становилось симпатично, как в комнате. Только Лиля кривила крупные губы и, как палки под ноги, швыряла перед бегающей Машей фразы:
— Вот цаца! Глазыньки-то! Глазыньки!
Ну зачем, Лиля? Маша никогда ей не отвечала. По-моему, она не обижалась. А Лилю это злило еще больше.
Подавая, Маша успевала пригладить Лешке вихор, Алешке подтянуть бант.
В этот день толстая повариха (честное слово, у нас повариха толстая, как преимущественно и всюду) сказала Маше:
— Дети у тебя хороши! А сама ты!
— Что я? — непонимающе спросила Маша.
— Да ты посмотри на себя. Посмотри!
Через весь зал Маша, как привороженная, двинулась к зеркалу. Школьные ее туфли давно были заменены на тапочки. И она бесшумно приближалась к своему отображению, почти вплотную подошла к нему и стала рассматривать, чего-то не узнавая. Из-под края тугой белой косынки вылезли пряди волос. Маша поправила их, заткнув под косынку. Усталые тени темнели под глазами. Этого не поправишь. Клеенчатый фартук, порыжевший от жирных брызг, может быть, напомнил ей про другие наряды, и она завела тонкие руки за спину и затянула узел потуже. В это время Алешка, следившая за ней, перевернула тарелку с борщом, и как раз из своего кабинетика рядом с кухней вышел Квахадзе.
— Некультурно получается, — сказал он.
— Она маленькая, — заступился Лешка.
— Я не маленькая, я нечаянно, — возмутилась Алешка.
Со стола на пол опустилась струйка борща.
— Зачем они сюда ходят? — спросил Квахадзе.
— Я им свой обед отдаю, — сказала Маша, кинувшись промокать пятно на столе и загибая углы скатерти. — Я их днями не вижу.
— Э! — сказал Квахадзе. — Корми там!
Он водил рукой, как регулировщик, в сторону кухонного коридора, где стоял я.
— Илларион Константинович!
— Доктор! Дети — хорошо, но рэ-эсторан, понимаешь, скоро будет! Рэ-эсторан!
На этот раз любимое слово он сказал с издевкой над собой, и все лицо его изобразило страдание. Он был доведен неудачами до отчаяния.
— Уходите! — крикнул он детям. — Цаца!
Маша дернула завязку и кинула фартук на стул, за ним — косынку, за ней — халат. Глаза ее заплыли чернотой.
— Маша! — сказал я.
У дверей, держа Лешку и Алешку за руки, она оглянулась:
— Не кричите на них!
— Что с ней? — спросил Квахадзе.
А Лиля крупным шагом вдруг пошла за Машей к качающимся дверям.
И опять, как на немом экране, я увидел в большом окне Машу с детьми и Лилю, которая загородила им дорогу. Лиля подхватила Алешку и понесла сюда, в столовую. Маша растерянно опустила глаза на Лешку и следом повела его за руку.