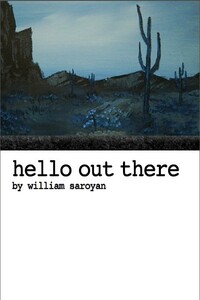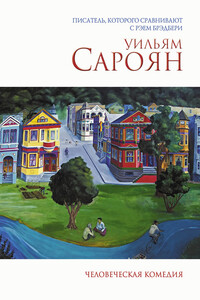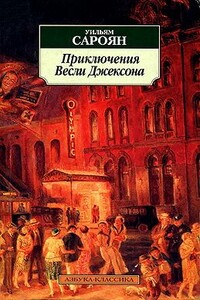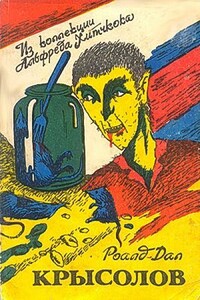Будут говорить тогда, как говорят сейчас, – обращая свое умо-зрение то в себя, то вовне, в до и после – будут говорить тогда, как говорят сейчас, что это случилось в момент затяжки и электрической бессонницы: здесь он стоял, внезапно пробужденный и внезапно оживший от смерти, а теперь дома нет, только дерево, большое, неохватное, толстое, себялюбивое, безжалостное, крепкое, эвкалипт в обмороке от ветра и хватавший птиц мгновение назад, это было здесь, мы видели его тихое лицо на свету, как он глумился над смертью и унижался перед ней, и хотел ее, и издевался над ней, и она была почти рядом, и мы слышали, как он вдохнул в легкие камень и выдохнул как мысль, как нечто из времени и человека – нечто из его времени, но сейчас дома нет – только это дерево, и что есть истина? Что есть то, о чем мы можем сказать, что это не ложь, даже если это христианская ложь? Что это? Или это всегда неправда? Хотя мы знаем, что он стоял тут?
И речь, что мы слышим после всех этих мгновений, и камнепад, и расползание морей, и континентов, эта речь, что мы слышим, есть речь тишины, и слова невнятны и бессмысленны, и все зыбко и противно, кроме мощи большого дерева, которое оплакивает человека, но рыдает там, где стоял дом, и речь такая приглушенная и шелестящая, что не скажешь – мальчик ли это говорит, или, может, спустя годы стонет дерево, и нет такого факта, в который можно ткнуть пальцем, и нет истины, и все, что идет из космоса и тишины, суть мягкие колебания мысли, почти что озвученной смертным человеком, и верхние ветви большого дерева раскачиваются и дышат жизнью, и вспоминают смерть мальчика.
Но факта нет, и суть дела расплывчата. Историки разводят руками от изумления, и скала, которая крошится, крошится все больше, и факт находится и внутри и вне скалы, и внутри и вне воды, которая прикатывает волнами, как спецпосылка от луны по спеццене доллар и двадцать пять центов за ваши лучшие брюки и десять центов за шляпу, а ваши галстуки не стоят ни гроша – они совершенно мертвый груз, эти ваши галстуки в горошек.
Ты можешь, конечно, выкурить очередную сигарету и снова взглянуть на календарик, чтобы удостоверить факт, оттиснутый на бумаге, и убедиться, что уже январь, и можешь с тем же успехом предположить, что это ты сам смотришь, и можешь тронуть разинувший пасть фонограф, поклоняясь его молчанию, ибо утро наступит прежде, чем дерево склонится к западу.
Все происходит в этом году, сейчас, и уже древо и скала говорят устами тех, кто наделен речью, что, возможно, но только возможно, это случилось здесь, в этом месте, на этой земле, где мальчик стоял и курил, растворяясь на мостовой, в асфальте, в недрах города и земли, так что можешь встать, и зевнуть, и сказать про себя: «Джентльмены, я полагаю, пробил час, и во имя вселенной я принимаю назначение и смиренно занимаю свое место среди твердых тел, подпитывающих цветочки на кладбищах от Токио до Тихуаны на западе, и на все другие стороны, смиренно принимаю, и смиренно кланяюсь, и выступаю со следующей речью, джентльмены, я скормлю свою кровь, кости и потроха подсолнухам, ибо они сильны и так похожи на солнце, и ради продолжения их рода я смиренно схожу на нет, чтобы уступить место маленьким, большим и бессловесным подобиям великого светила, которое одаривает нас жизнью, смехом, коварством, вшами и прочими большими и малыми существами, что делают нашу землю такой раздражающей и прекрасной, такой прекрасной, и, джентльмены, даю вам слово чести – именно ради цветов я говорю «добрый день», я ухожу, я ушел, меня уж нет».
Часы тикают на не очень внятном, но почти вразумительном языке, и стоит январская ночь. Именно здесь мальчик молча протягивал свое пальто человеку-продавцу, неслышно говоря человеку из магазина: «Вот, сэр, пальто не новое, я проносил его много лет, но оно еще погреет какого-нибудь бедолагу одну зиму, и только это меня заботит – согреть зимой какого-нибудь бедолагу, ибо сохранение – в наших обычаях, и еще поговаривают, что время якобы уходит от нас, и ходят слухи, будто сзади на нас напирает пара веков и тьма нерожденных детей выплакали глаза, лишь бы встать на ноги и разыграть такую сценку, типа один ребенок мужского пола хочет ребенка женского пола, а в них засели миллионы детей, жаждущих того же, только еще безудержнее. Так что пусть пальто согреет зимой какого-нибудь бедолагу. А иначе всему конец, и я, уйдя, исчезну совершенно, и со мной уйдет другой, а грызуны будут покатываться со смеху, и человек будет почесывать свою мертвую голову и думать – как странно хохочут эти грызуны, как будто мы одни остались в дураках, можно подумать, если они быстрее размножаются, то они же не быстрее околевают – вот ведь какая любопытная штука».