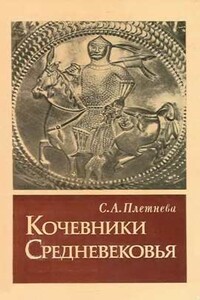обратила в несколько десятков тысяч, а другая часть, будучи уверена (freta), что с нею
ничего не случится, осталась беззаботно по домам. Но и этим Орда, когда они
выходили из местечек приветствовать ее, сделала такой привет, что во многих местах
высекла в пень. Только тогда начали бежать ото всего добра и хлопы. Таким образом
Татары возвращались к своему кошу и к табору Хмельницкого под Белую Церковь,
обремененные добычею. А что дальше будет, слушаем только да выглядываем.
Различных до-
214
*
бываем языков: одни пойманные из тех загонов Татары говорят, что присягли друг
другу оставаться до зимы; а другие, что, кончив это посещение (odprawiwszy goњcinк),
Татары хотят идти в Волощину, а козаки—к Днепру. Теперь уже не можем иметь
никакой помощи из Киевщины, Подолии, Брацлавщины; только из Волыни взываем к
остающейся в тылу братии. Но и тех трибунал задержал до сих пор несчастными
судами, не обращая внимания на огонь, который охватил уже большую часть
Республики (magnam lleipublicae partem). Таким образом не остается никакой надежды
устоять против неприятеля, находящагося в (ея) недрах (in visceribus): сила его
возросла до 200.000 Орды я Козаковъ".
Сидя на чеку в своей Гоще, вспоминал Кисель и о Кумейках, которыми с
притворною наивностью закрывался от козацкой мести. Теперь писал он к временному
главе государства—примасу:
„Что сделает мое увещание, и как обойдутся с моим конфидентом, жду между
надеждой и страхом. Хоть я всегда старался снискать у Козаков доверие на случай
беды, но боюсь, чтоб они не припомнили мне кумейского предприятия; они там
поддались по моей присяге, которою уверил я их, что жизнь их вождей будет
пощажена, но этого (в Варшаве) не исполнили".
И всё-таки веровал он в силу своего хитроумия; всё еще надеялся, что укоськал
своим посольством бунтовщика и размягчил его, как воск (albo uczyni reflex'y№ ten
rebelиis t№ moj№ legacy№ liquefactus i ugиaskany, albo, strzeї Boїe procedet ultra):
В том же письме к примасу сенатор, без которого „не могло быть постановлено ни
войны, ни мира", ознаменовал себя мудрым советомъ—избрать главнокомандующим
будущего панского войска богатейшего, неспособнейшего и трусливейшего из
польскорусских панов, сендомирского воеводу, князя Доминика Заславского,
наследника богатств и нравственной несостоятельности нашего „святопамятнаго"
князя Константина-Василия Острожского.
Сеймики в покинутых воеводствах находил он невозможными, потому (писал он),
что „воевода киевский (Тишкович) находится в Дубне; я в Винницу не могу ехать (в
такое время), когда помещики разбежались и неприятель преградил путь. Сам князь
Вишневецкий отступил к Драгину. Одни хлопы сеймикуют, или лучше—бунтуют в
покинутых провинцияхъ".
В заключение письма, Кисель называл себя нищим и сетовал, что „теперь мало кто
думает об отечестве". .
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССП ОТ ПОЛЪШИ.
215
Это было писано ВО (20) июня. Через 17 дней литовский канцлер писал в своем
дневнике о грозном положении дел в отечестве, о котором теперь мало кто думает,—о
том, что и в Литве собралось уже 12.000 хлопов, которые сожгли, разграбили, вырезали
несколько сел, местечек, городов, потомъ—о свирепых подвигах Перебийноса в
Виннице, о приближении козацкой орды к Волыни, и наконец заметил, как и Кисель:
„однакож все это не произвело у нас движения: все дела шли медленно*.
Не мудрено было Хмельницкому прослыть человеком wielkiego dowcipu и военным
гением в таком государстве, где каждый думал только о себе и в годину страшной
опасности хлопотал, чтобы его любовь к отечеству „не осталась без памятника*.
Пока паны сносились между собой да готовились вяло к отражению татаро-козаков,
князь Вишневецкий соединил вокруг себя раздраженную козацкими злодействами
шляхту, вооружил наскоро преданных ему подданных, — тех подданных, которых отцы
и деды ходили с Байдою в Туретчину, Московщину, в Волощину,— и ринулся на
козацкие загоны, свирепствовавшие в шляхетских добрах. Ожесточение шляхты взяло
тогда самый дикий аккорд с козацким „зверствомъ*,—и вышел адский концерт
взаимных убийств и терзаний.
Малорусские историки в особенности налегают на жестокосердие князя