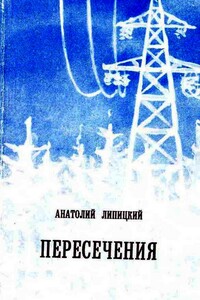Славное времечко настало — только живи и радуйся. Даже надоедливый братик не мог помешать Шурке наслаждаться всеми летними удовольствиями. Он приспособился таскать Ванятку на закорках и летал с этой живой ношей быстрее ветра.
И все‑таки не чувствовал себя Шурка совершенно счастливым. Омрачала светлые денечки измена Катьки Растрепы. Тогда, во сне, они помирились, за Кощеевой смертью вместе ходили, повенчались, ели пеклеванник на своей свадьбе и потом хорошо зажили в Катькиной домушке. Но когда наутро, под свежим впечатлением сна, забыв ссору, Шурка, урвав свободную минутку, побежал к Тюкиным под навес, он застал там… Олега Двухголового.
Ненавистный враг его, в починенной, все еще почти новой и очень красивой рубашке, сидел на любимом Шуркином бревнышке, жевал пряник, а Катька, бессовестно глядя ему в рот, показывала черепочки и стеклышки. Она доставала их с полочки, сделанной Шуркой (подумать только!), и раскладывала на опрокинутом старом ящике, быстро, по — зверушечьи снуя маленькими белыми руками.
Катька и Олег так были заняты, так счастливы, что не замечали Шурки.
— Вот из этой, с цветочками, посуды мы будем с тобой пить чай… А на этой синенькой — обедать, — протяжно, весело болтала Катька, и прищуренные глаза ее светились зеленоватыми щелками. — Давай клади пряник на синенькую тарелочку.
Двухголовый послушно положил на черепок обкусанный пряник.
— Маловато на двоих, — сказал он, посапывая. — Да постой, у меня, кажись, еще есть.
И, развалясь хозяином на бревнышке, полез в карман. А Катька радостно засмеялась.
Шурке показалось, что сердце его разорвется. Надо бы уйти от навеса, и он хотел уйти, но не мог. Стоял, будто окаменев. А глаза все видели. И уши все слышали.
— Кушайте, гости дорогие! Угощать больше нечем.
— Много благодарны. Сыты по горло… Сама кушай.
Катька двумя пальчиками осторожно взяла с черепка коричневый огрызок пряника.
— Как мед, — сказала она, попробовав.
Круглое, масленое лицо Двухголового изобразило довольную улыбку.
— Я тебе завтра настоящий вяземский пряник принесу. Он еще слаще… Будем играть здесь каждый день.
— Ладно.
— А Петуха и Кишку не пустим. Да?
— Да. Они мне надое — ели.
Шурка через силу собрал кусочки разбитого сердца, оторвал ноги от земли и, как слепой, ощупью, натыкаясь на изгороди, побрел домой.
Отплатить! Отплатить!
Ни о чем другом он не мог думать. Его перестали интересовать лужи, тройки и липовые листочки. Кровь кипела в нем, клокотала, как вода в самоваре. Огонь пылал в груди. Шурка даже вспотел от напряжения. Он поклялся не есть и не пить, пока не отплатит Растрепе.
У него не было ружья, чтобы застрелить Катьку. По топор лежал в сенях за ушатом, тяжелый и острый. У Шурки не дрогнет рука, он раскроит Растрепе голову, как Павел Долгов своей жене.
Шурка попробовал представить, как он убьет Катьку… Ему стало не по себе. Горячее воображение повернуло ход событий в жалобную сторону.
Он увидел себя умирающим. Он не может пошевелить ни рукой ни ногой и лежит, вытянувшись, на лавке под образами. Василий Апостол гнусаво читает Псалтырь. Свечка, криво воткнутая в солонку, догорает в изголовье. Катька бьется — валяется у лавки, воет и причитает, как горбатая Аграфена.
«Не умирай!.. Я буду водиться только с тобой… Не умирай».
Поздно… Он вздыхает последний раз и шепчет:
«Живи… в домушке… с Олегом Двухголовым».
Сидя на крыльце, Шурка складывает руки на груди крестом. Слезы текут у него по щекам — не выдуманные, настоящие, горькие слезы. Костенеют ноги, мурашки ледяные ползут по телу, подбираются к сердцу. Оно бьется все реже и реже. Вот и совсем перестало биться. Он весь похолодел и не дышит. Умер…
Шурка вздрагивает, прыгает с крыльца, со страхом ощупывая себя: не умер ли он в самом деле?
Но воркует, ползая по траве, братик Ванятка. Мокрые горячие щеки приятно холодит ветерок. И очень хочется есть.
Шурка идет в избу. Нарушая клятву, с аппетитом съедает краюшку хлеба с солью…
Через неделю пришло некоторое утешение: Колька Сморчок донес, что Растрепа подралась с Двухголовым. Он разбил у ней в домушке все черепки, а она исцарапала в кровь Олега и прокусила ему ухо.