— Я все понимаю.
— Он не знает любовь даже сами коротки… Он — чтоб ломать и… крушить. Просто так. Просто так. Ньет! Ньет, ни вы и никто это не понимай!
— Но была любовь. Это ваша любовь, Петронэль, — очень тихо ответил он. — И от вашей любви останется след. Сокрушить этот след ему не под силу. Даже если ваша любовь пройдет, останется от нее дымок, горьковатый, как от костра, уже отгоревшего… Вы меня слышите, Пероннэль? Этот след и этот огонь — ваш ребенок, ваша любовь. Она будет жить но великому человеческому закону. Трава не сорвана, не затоптана. Рядом трава другая!
Он искал слова. Он говорил с ней так, как ему несвойственно было: ее языком, ее болью, ее любовью.
…Они не закрыли ставен. В окно входила ночь, мешаясь со светом зажженного над столом электричества. Луна была полной, яркой. В голубоватом ее сиянии выступал подоконник и та дорожка — домотканая, деревенская, что у входной двери. Потом посветлело небо к вместе с ним посветлела луна.
Она уронила руки на стол и уснула. Свешивались до полу ее прямые мокрые волосы.
Он поднял ее так бережно, словно она была не женщина, а ребенок, и перенес на кровать, укрыл своим одеялом и, помнится, все шагал и шагал до комнате, стараясь ступать неслышно… Он не знал, что делать. Быть может, забрать ее с собой в другой город? А вдруг она не сможет без родины? И…. быть может… кто знает? — впоследствии ради ребенка…
Он не боялся ответственности, ему поможет жена… Но разве все он знал? Разве можно верить всему, особенно нынче, когда она так взволнована, вне себя, когда она была только что на пороге смерти?
И о том он думал еще, как возможно было тому, кто был с ней, отказаться от ее удивительной красоты, от ее затаенности — величайшего дара женщины?
Она проснулась. Вышла из своей комнаты аккуратно причесанная… И, как каждое утро, доставила чай. Лицо ее было спокойно, волосы все еще влажны.
Ему начало казаться, что он подслушал нечто, чего не должен был знать.
Вечером, чтоб попоздней вернуться домой, он вошел в ресторан с коллегами. Необъяснимо было чувство неловкости, которое он испытывал перед своей хозяйкой.
Входная дверь оказалась незапертой. Петронэль спала а своей комнате. Вчерашний вечер был сном.
На следующий день врачи уезжали. К порогу больницы подъехал автобус. Все шумели, острили, прощались.
К автобусу подошла Петронэль в своем белом халате, косынке. Она подняла на него расширенные глаза. И вдруг, наклонившись, быстро и коротко поцеловала при всех его руку. Сегодняшнее движение жены… когда она наклонилась вот так же к его руке…
Удивительна человеческая память!
Он обнял Петронэль я по-братски расцеловал ее в обе щеки. Если бы он был верующий, то, пожалуй, перекрестил бы ее тогда.
Всё приумолкли. Автобус тронулся. Петронэль стояла высокая и худая. Она смотрела вслед отъезжающему автобусу. На повороте он выглянул из окна, она была неподвижна, она все стояла, повернув голову вслед набиравшему скорость автобусу.
Он прожил большую жизнь. Видел много людей, прикоснулся ко множеству судеб. Людей он, грешным делом, любил и, случалось, жестоко в них ошибался. Опыт ему подсказывал, что редка человеческая благодарность. Он и не ждал ее, она бы его тяготила, — нее, что он отдавал, он давал не от слабости, а от силы.
Если кто-нибудь из больных, встречая его, переходил на другую сторону улицы, он это считал законным: стало быть, здоров… Кому же охота помнить о времени пережитой душевной казни?
Редко-редко величайшие чудаки не тяготились бременем благодарности. Это всегда казалось Бабичу придурью, говорило, как он полагал, об особой структуре личности.
Подошел к окну. Посмотрел во двор. В небе стояли точечные, светлые звезды, часть луны прикрывало облако.
Где ты, Петронэль! Быть может, в свечении этого снега, в ветре, который раскачивает фонарь?.. Или в дыхании твоего сына?
Ничто никогда не проходит бесследно.
Слышишь ли ты меня? На земле — трава. На земле — цветы. И я… я того…
Петронэль! Я тебе благодарен.
Поздно, однако. Надо ложиться спать!

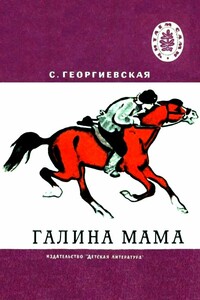


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)

