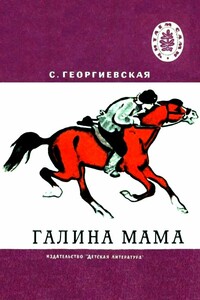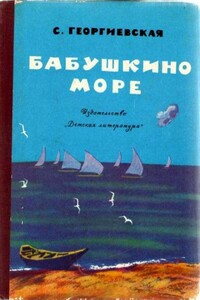Здесь весной я осенью он готовил уроки, примостившись у круглого столика в углу, под тентом; здесь он читал, улегшись на скамью животом. Он так увлекался чтением, что не замечал: темнеет на улице.
Расходились больные (призывно звучал звонок), мальчик оставался один в смутно волнующемся сумраке саде.
Он читал — как читает юность, когда впереди словно гул предчувствия всего того, что нам может даровать жизнь. Это какой-то особый голод души, что ли, неспособный ничем насытиться; музыка, как бы летящая за пределом того, что мы слышим.
Лежа на скамье животом вниз, Саша от восторга болтал ногами, садился, опять вставал.
— В чем дело?.. Что с тобой?.. — спросил его как-то молодой врач, проходивший мимо. — Разыгралась лумбага — седалищный нерв?
— Нет. Комары заедают, — ответил Саша, краснея.
Мир был полон образов, звуков, разноголосицы, словно бы у всего неодушевленного — своя душа, свои требования на отклик…
Как огромен был Сатан крошечный мир и как полон бесчисленных голосов, к нему обращавшихся!
Не острота сюжета и не желание узнать, «что дальше», вели его по страницам книг, а невыразимая подлинность, странность искусства.
Подобный отклик бывает у серьезных профессионалов и у ранней юности, еще не полностью вышедшей из страны причуд, не утратившей свежести зрения.
Как он читал Гамсуна! Не то чтобы до конца понимая его, — нет. нет… Он вбирал страницы опытом генов — опытом тех людей, что жили до него.
…«Голод» Гамсуна, Человек на темном чердаке, отрезанный от людей, от мира. Он хочет есть. Он бродит по улицам, видит асе с пронзительной ясностью. Он молод, он любит… Но ему все время хочется есть. Голод его опьяняет, превращая город вокруг него в звуки, образы…
Мальчик лежал на скамье. Он болтал ногами.
Туда, в глубь жизни другой, озаренной всполохами надежд, страданий, боли, борьбы… Он будто вплывал в нее.
Откуда так знакомо ему все это. словно он прожил тысячу жизней, а то время как только еще начинал свою собственную, единственную?
Он лежал на скамье, животом вниз.
…Деревья! Вот их неутомимый бег: бежали листки над ветром… движение их зеленых про долговатых пяточек…
Это — жизнь. Но ведь есть еще и другая: Сашина.
Мать иногда возвращалась очень поздно домой, почти под утро (брала ночные дежурства: жить-то надо, что тут ни говори).
Она возвращалась поздно и приносила в судочке кашу.
— Каши, что ли, поешь?
— Не поем что ли.
— Ты мне дерзишь?
— Да что ты! Никогда в жизни.
— Пойди за хлебом! Принеси песку— надо почистить кастрюли, — коротко говорила она.
Сшил ходил за хлебом, приносил песку, чтоб чистить кастрюли, но это его сильно ранило. Не тем, что люди (и он и том числе) не могут прожить без хлеба, не тем, что кастрюли должны быть чистыми, — его ранило странное безмолвие, деловитость их дома. И еще то, что по вечерни было полутемно у них, потому что мать экономила электричество.
У его товарища и соседа и доме совсем иначе. Прежде всего — там отец. И Сестренка. Пятилетняя, маленькая. И мять — кок все матери.
Там пили по вечерам чай с пирогами, усаживаясь за общий широкий стол. Там Саша, взяв кухонный нож, вырезал из дерева для девчонки крохотных человечков. Человечки разговаривали между собою разными голосами: папа, мама и вся семья.
Увидев Сашу, девочка, которую звали Надя, бросалась ему на шею.
— Осторожно! — смеялся он. — Эй ты!.. Задушишь!
С товарищем они подметали метлою двор, сооружали снежных баб, катались, на коньках по слежавшемуся снегу…
Двор и дом у Сашиного товарища были переполнены смехом, возгласами, уютом, запахом пирогов.
А у Саши…
Сидя за кухонным столом, они с матерью ели молча. Лицо матери — суховатое, молодое, прекрасное, с чуть ввалившимися щеками, — было похоже на лик мадонны. Бледно-голубые глаза сосредоточенно смотрели в противоположную стену. Он отводил взгляд, стараясь нс замечать, как от глотков вздуваются жилки на худой се шее, старался встать из-за стола до того, как она приметен смахивать со скатерти крошки ладонью.
Ладони узине, пальцы длинные, полупрозрачные. Католическая мадонна — самая отрешенная из всех на свете мадонн! — сметала со стола крошим.