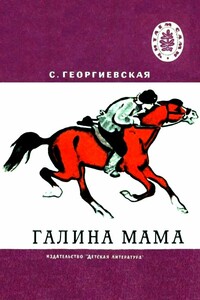И вот он в театре. Всем ясно, что ему уже минуло шестнадцать лет. Как все вокруг нарядно одеты, особенно женщины — старые и молодые! Туфли, туфли, туфли-самые разные; женщины, дерзко пристроившись у раздевалок, переобувались. По фойе шагали туфельки всех цветов, ровный свет освещал фойе, мягкое тепло бежало от труб парового отопления.
Но самое странное, самое удивительное — что он, Саша, как будто попал в свой собственный дом. Чувство было такое, словно он уже бывал здесь множество раз, нее вокруг узнавал; характерный шумок, стук туфель, а главное — это предчувствие праздника.
Вот группа из телевидения — двое юношей с аппаратами, осветительными приборами и небольшая толстая девушка. Она, видно, уверена, что они здесь самые главные: говорит очень громко, почти орет и все из нее оглядываются.
Театр! В их школе тоже был театральный кружок, как во всех школах их театрального городка (Саша выполнял обязанности помощника режиссера, от участия в спектаклях он категорически отказался). Даже в школе и то перед тем, как начаться действию, а актовом зале чувствовались подъем, оживление… Из себя выходила вожатая, рассаживая гостей…
Но только здесь, в театре Ушинскиса, в театре подлинном, сам воздух, казалось, был напоен глубокой, сосредоточенной серьезностью, — предчувствием чуда, предчувствием магии. Напряженное ожидание все нарастало.
Звонок. Саша с трудом доковылял до передних рядов.
Какая удача: свободный приставной стул.
Второй звонок— мелодичный, как колокольчик.
В зале всплеснул последний шумок. Это люди рассаживались. Русские торопливо прилаживали наушники.
Свет погас. Взвился занавес.
Полутемная сцена пуста. Негромкий голос из-за кулис отчетливо летит в зал.
Это голос солдата, немца, возвратившегося в Германию после проигранной битвы под Сталинградом. Он расплатился коленной чашечкой.
«…Теперь мне кажется, что я двигаюсь не вперед, а назад».
На темной сцене действующие лица: солдат, смерть, бог.
«Почему вы все время икаете?» — сочувственно спрашивает традиционный старенький бог у лысого человека во фраке, который изображает смерть.
«Я объелся, — отвечает ему человек-смерть, — у меня изжога».
По сцене мечется двадцатипятилетий солдат со своей несгибающейся ногой.
«Как странно! Она, моя жена, называет меня по фамилии, не по имени. У нее новый возлюбленный! Но ведь она была мне женой, женой… И вдруг — у меня нет имени».
Весь он тут — со своей арестантской стрижкой, близорукий, в очках от противогаза, без крова, работы, хлеба. Германия не ждала его. Его не было слишком долго. О нем забыли.
(«Совершенно как я… Я им больше не нужен… Отдал все, и вышвырнут. Вышнырнут».)
Плачет на сцене над бывшим пленный старенький бог. Мир — поломан. Бог — отстал от времени, он не в силах что-либо изменить.
Солдат на берегу Эльбы.
Но Эльба, широкая и прохладная, величавая, с зелеными рукавами, не принимает солдата. Он молод, Эльба не станет его баюкать на своих прохладных руках. Она выбрасывает солдата на берег.
Озаренная ярким светом, солдату является женщина, тянет его за собой:
«Идем, большая мокрая рыба».
В зале напряженная тишина. Не слышно не только покашливания, — не слышно человеческого дыхания. Оно не слышно даже тогда, когда все вокруг становится совершенно черным.
Одна картина отбивается от другой темнотою. Мгла полная. Ни одного хоть самого тусклого огонька. Если бы зажегся огонек спички, он бы, пожалуй, мог показаться фейерверком.
Тусклый свет озаряет сцену. Два голоса, два сердца, два существа — мужчина и женщина. И непривычное для солдата тиканье настенных часов, и непривычный для солдата огонь настольном лампы… Дом! Тишина. Тепло.
Она срывает с него очки от противогаза — этот признак войны и безумия.
И вдруг начинает казаться, что от самого верха сцены к ее подножию идет помост. Необычный. Вогнутый. Не помост, а сферический круг, как бы соединяющий землю и небо.
Из вечности в полуслепые глаза солдата, с которых женщина сорвала очки, брезжит свет. И в этом неверном свете — другой солдат. Гигант. На костылях.
«Я слышу его шаги, звук его костылей».
Она хохочет. Но вот — оглянулась…