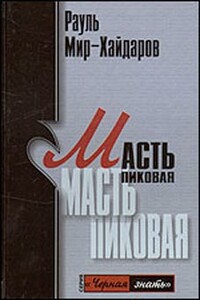Да и посуди сама, ты тукмаш[6] любишь, а он борщ, он пьет кофе, а ты без чая пропадешь. Или еще вот на пришлых да городских женихов мода пошла: девки наших парней и замечать перестали, думают, если уж парик на голову натянули да туфли на толстенной подошве нацепили, так сразу городскому и пара. Город, он тоже не из одних пряников, прижиться, привыкнуть нелегко. Ну, выйдет, положим, какая за городского, уедет из поселка. На работу час, обратно час, да пуговицами на пальто поди запасись. Там очередь, тут очередь — на «платформах» не набегаешься. И молоко не то, и яйца не те, а масло и не пахнет, о сливках и парном молоке забудь. Тут не так сказала, там не так кашлянула, и белой вороной недолго оказаться, у городских язык тоже острый. Замотаешься так, что того и гляди парик задом наперед наденешь. Да тишины вдруг захочется, намаявшись по квартирам, жилплощадь ведь тоже скоро и за так не дают — вспомнит Хлебода- ровку. И будет умолять мужа, устала, мол, я, уедем к нам, а ему, городскому, не понять, за каприз сочтет, пойдут недовольство да ругань, тут-то и конец может быть семье. Конечно, всяко бывает, бывает и иначе, а только мне кажется, что своего берега держаться нужно, по себе дерево рубить…
Павленко Камаловы уважали, и, видимо, Кирюшины слова что-то изменили в брачной политике Гюльнафис-апа. Да и девушки как будто кое-что уразумели.
Осенью почти каждый день в вечерней тени высоких тополей Ариф-абы видел поджидающего Нафису парня. Его Ариф-абы знал: прошлой зимой он тащил этого молоденького шофера с трассы и клял начальника автобазы, что подсунул развалюху вчерашнему курсанту. Тогда и познакомились — Гарифом его звали.
Гюльнафис-апа до самого Нового года ни слова не сказала мужу, а дочь уже почти полгода с парнем встречалась, и дело, похоже, шло к свадьбе. Только за праздничным столом у Павленко она потихоньку спросила:
— А этот жених как тебе?
— А раньше разве женихи были? Да и Гариф вроде еще не сватался?..
— Тебе только шутки шутковать, вроде и не невесты дочери твои, а все школярки…
— Парень как парень.
Весной свадьбу и сыграли. Жить молодые у Камаловых не стали, Гариф был единственным сыном, и его родители у себя в казенном коттедже отвели им второй этаж. Однако бывали они у Арифа-абы почти каждый день — ходить-то недалеко, с соседней улицы. Вечером, приходя с работы и стягивая мокрые сапоги в прихожей, Ариф-абы слышал за дверью голос зятя и радовался веселому шуму в доме.
Радовался, что они сейчас сядут за стол и поведут с этим щуплым пареньком степенный мужской разговор, и Гюльнафис-апа, довольная и счастливая, будет суетиться между плитой и столом. И потом, в какую бы комнату он ни ушел, всюду он будет слышать голос зятя, сына…
А субботы теперь выходили такими, о каких он когда-то мечтал. Га- риф служил на Севере и толк в банях знал, мунчу тестя сразу оценил.
Ариф-абы по субботам часто работал, и в такие дни ставил грейдер у себя во дворе. Еще издалека, с высоты оранжевой кабины, он видел, подъезжая, вьющийся дымок…
Волнением и радостью обдавало сердце, что теперь их в семье двое мужчин, что к его приходу сын топил баньку…
Не заходя в дом, заглушив машину, спешил Ариф-абы к зятю. Вдвоем они носили воду, мыли бадейки, а потом, пропустив первыми женщин, долго мылись и неистово, по-мужски, парились.
Дома на столе их уже поджидал пыхтевший самовар и горячий, только из духовки, балиш. А Г ариф, несмотря на протесты жены и тещи, каждый раз доставал чекушку беленькой.
Допоздна сидели они после баньки за самоваром и говорили о делах, знакомых и ясных для всех, и Ариф-абы иногда со страхом думал: «А о чем бы я говорил с городским зятем? Разве интересны были бы ему мой грейдер и сельские дороги? Пришлась бы ему по душе наша простая жизнь, принял бы сердцем наши тревоги и заботы?» — и еще большей симпатией проникался к тоненькому большеглазому парню, казавшемуся моложе рядом с дочерью, неожиданно вспыхнувшей яркой женской красотой.
С думами о завтрашней баньке и вошел Камалов на территорию ДЭУ Грейдер стоял на смотровой яме, и два слесаря-ремонтника с механиком осматривали машину.