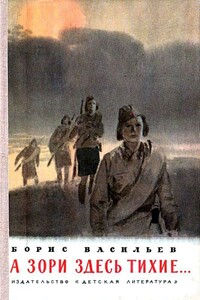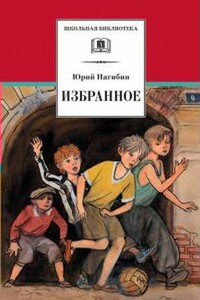Тимофеич помялся и ничего не отвечал.
— Отец здоров?
— Слава Богу-с.
— И мать?
— И Арина Власьевна, слава тебе, Господи.
— Ждут меня небось?
Старичок склонил набок свою крошечную головку.
— Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи.
— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.
— Слушаю-с, — со вздохом отвечал Тимофеич.
Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.
Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.
— Как же это вы ехать собираетесь, — начала она, — а обещание ваше?
Базаров встрепенулся.
— Какое-с?
— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.
— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть Pelouse et Frémy, Notions Générales de Chimíe[31]; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.
— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить… я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать… помните?
— Что делать-с! — повторил Базаров.
— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.
Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажной сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.
— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.
Одинцова слегка повернула голову.
— Как зачем? разве вам у меня не весело. Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?
— Я в этом убежден.
Одинцова помолчала.
— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. — Базаров продолжал сидеть неподвижно. — Евгений Васильевич, что же вы молчите?
— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.
— Это почему?
— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.
— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.
— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?
Одинцова покусала угол носового платка.
— Думайте что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.
— Аркадий останется, — заметил Базаров.
Одинцова слегка пожала плечом.
— Мне будет скучно, — повторила она.
— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.
— Отчего вы так полагаете?
— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске… никаким тяжелым чувствам.
— И вы находите, что я непогрешительна… то есть что я так правильно устроила свою жизнь?
— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.
— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно… мне что-то душно.
Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось… Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.
— Спустите стору и сядьте, — промолвила Одинцова, — мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.
— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.
— Вы очень скромны… Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.