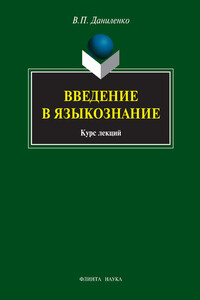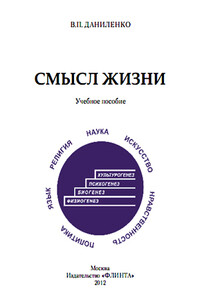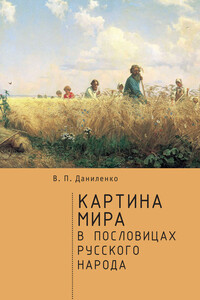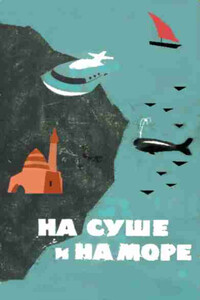В последней, 13-й, главе своей громогласной книги, которую её автор назвал «Прогресс, который несут революции», читаем: «Революции оканчиваются полной победой одного из двух противоборствующих лагерей. Будет ли эта группа утверждать, что результат её победы не есть прогресс? Это было бы равносильно признанию, что она ошибается и что её оппоненты правы» (там же).
Революции в науке – необходимое звено в её эволюции. Они делают эту эволюцию скачкообразной, но вместе с «нормальной наукой» они ведут её ко всё более и более детальному представлению о мире.
Завершая свою книгу, Т. Кун писал: «Процесс развития, описанный в данном очерке, представляет собой процесс эволюции от примитивных начал, процесс, последовательные стадии которого характеризуются всевозрастающей детализацией и более совершенным пониманием природы» (там же).
Последний абзац замечательной книги, о которой здесь шла речь, указывает на необходимость и перспективность эволюционной точки зрения на историю науки: «Любая концепция природы, которая не противоречит при тех или иных доводах росту науки, совместима в то же время и с развитой здесь эволюционной точкой зрения на науку. Так как эта точка зрения также совместима с тщательными наблюдениями за научной жизнью, имеются сильные аргументы, убеждающие в том, что эта точка зрения вполне применима и для решения множества ещё остающихся проблем» (там же).
Томас Кун создал такой образ науки, с которым, казалось бы, невозможно не согласиться. В нём всё на месте: его автор изобразил историю науки как эволюционный процесс, в котором долгие периоды её постенного развития меняются сравнительно быстрыми революционными периодами.
Между тем у Т. Куна нашёлся противник – Пол (Пауль) Фейерабенд (1924–1994). Он был гражданином мира. Родился в Австрии (Вене), жил в Англии, Новой Зеландии, Италии, Швейцарии, а с 1958 г. обосновался в США, работая до 1989 г. профессором философии в Калифорнийском университете в Беркли.
Главный пункт, в чём П. Фейерабенд разошёлся с Т. Куном, состоял в том, что последний представлял себе «нормальную науку» (т. е. науку, находящуюся между двумя революциями), как единую, монистическую, тогда как П. Фейерабенд стал изображать «нормальную науку» в анархистско-плюралистическом духе.
Научные истины, с точки зрения П. Фейерабенда, во все времена постигаются в борьбе между разными теориями, между разными позициями в решении одних и тех же проблем. Любая истина – плод сталкивающихся мнений, противоборствующих точек зрения, плод научного плюрализма.
Главный труд П. Фейерабенда – «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975). В этой книге он поместил «Набросок основных рассуждений». Его можно рассматривать как ведущие установки его науковедческой концепции. Вот почему я процитирую из этого наброска ключевые пункты:
[1] «Наука представляет собой по сути анархистское предприятие: теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся на закон и порядок.
[2] Это доказывается и анализом конкретных исторических событий, и абстрактным анализом отношения между идеей и действием. Единственным принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип все дозволено.
[3] Например, мы можем использовать гипотезы, противоречащие хорошо подтвержденным теориям или обоснованным экспериментальным результатам. Можно развивать науку, действуя контриндуктивно.
[4] Условие совместимости (consistency), согласно которому новые гипотезы логически должны быть согласованы с ранее признанными теориями, неразумно, поскольку оно сохраняет более старую, а не лучшую теорию. Гипотезы, противоречащие подтверждённым теориям, доставляют нам свидетельства, которые не могут быть получены никаким другим способом. Пролиферация теорий благотворна для науки, в то время как их единообразие ослабляет её критическую силу. Кроме того, единообразие подвергает опасности свободное развитие индивида.
[5] Не существует идеи, сколь бы устаревшей и абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше познание. Вся история мышления конденсируется в науке и используется для улучшения каждой отдельной теории. Нельзя отвергать даже политического влияния, ибо оно может быть использовано для того, чтобы преодолеть шовинизм науки, стремящейся сохранить status quo.