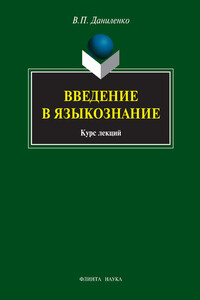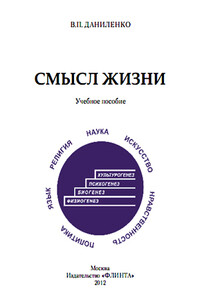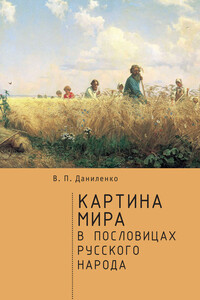Звучит как будто убедительно, но голословно. Непонятно, почему он решил, что перечисленные им достижения были получены в науке людьми, не опирающимися ни на какие методы. Разве можно, например, лишить человека общих методов (способов) познания? Сознаёт то человек или не сознаёт, но в его голове всегда сидит какой-нибудь способ познания, который стал преобладающим в его мышлении. В одной голове это абсолютизм (или – или), например, а в другой – релятивизм (и – и). Раньше в наших вузах учили студентов диалектико-материалистическому методу, а теперь наши философы застеснялись. Выходит, с методологической свободой дело обстоит не так просто, как казалось эпистемологу-анархисту Полу Фейерабенду.
Либеральный пафос П. Фейерабенда понятен: совершенно справедливо он считал, что творческая свобода – необходимое условие для работы учёных. Если эту свободу не абсолютизировать, она, бесспорно, способствует росту научных знаний. С этим «если» можно принять и следствие вытекающее из свободы научного творчества – плюрализм теорий.
Без плюрализма теорий в науке, по мнению П. Фейерабенда потому нельзя обойтись, что истина рождается на стыке альтернативных точек зрения. Он писал: «Познание представляет собой скорее возрастающий океан взаимно несовместимых (и, может быть, даже несоизмеримых) альтернатив, в котором каждая отдельная теория, каждая волшебная сказка, каждый миф являются частями одной совокупности, взаимно усиливают, дополняют друг друга и благодаря конкуренции вносят свой вклад в развитие нашего сознания» (там же. С. 178).
П. Фейерабенд вовсе не опроверг теорию Т. Куна. Он лишь привнёс в монистический образ «нормальной науки» Т. Куна океан плюрализма теорий и воззрений. Но в увлечении плюрализмом есть опасность запутаться в этих теориях и воззрениях. Между тем истина одна.
Плюрализм в науке не может господствовать над монизмом. В противном случае построение единой научной картины мира в тот или иной период времени превратится в химеру, а более или менее единая картина мира расползётся по швам.