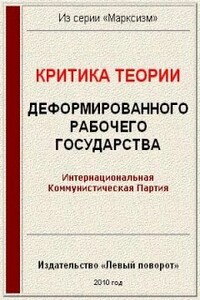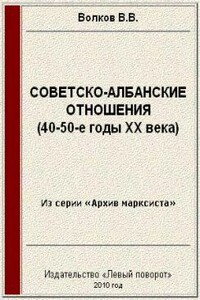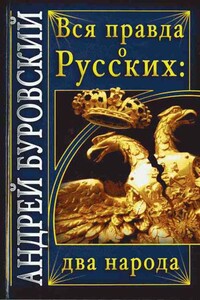В марте 1824 г. вышли 10-й и 11-й тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, посвященные эпохе царствований Федора Иоанновича, Бориса Годунова и Лжедимитрия. Ее изображение Карамзиным поразило Пушкина и многих других оппозиционно настроенных современников своей злободневностью (см. гл. 1). Непосредственно под этим впечатлением у Пушкина и возник замысел «Бориса Годунова». В следующем году трагедия была написана.
В повествовании Карамзина о «царе-убийце» Годунове Пушкин обрел благодарнейший материал для создания трагедии строго исторической и в то же время остро публицистической, соотнесенной с одной из актуальных идей освободительной мысли последних преддекабрьских лет — беззакония неограниченного «самовластия» вообще и особенно Александра I, санкционировавшего убийство своего предшественника и отца, Павла, которое и возвело его на престол.
Ярко очерченные Карамзиным характеры Бориса Годунова и Лжедимитрия и картины народного против них возмущения вполне отвечали замыслу Пушкина.
В одном из вариантов предполагавшегося предисловия к «Борису Годунову» Пушкин писал: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов, Карамзину следовал я в светлом (курсив наш, — Е. К.) развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».[298]
У нас нет никаких объективных оснований сомневаться в справедливости свидетельства Пушкина, четко обозначающего его важнейшие творческие ориентиры в работе над «Борисом Годуновым». Ориентиры весьма разнородные и потому требующие выявления их общей основы, их единого задания. Речь идет о замысле трагедии и ее жанровых очертаниях.
Общепринятая аттестация «Бориса Годунова» как трагедии исторической справедлива, но недостаточна. Ибо по мысли Пушкина она должна была явиться не только исторической, но вместе с тем и «народной драмой». Народной — значит национально-самобытной не по одной своей исторической фабуле, но и проблематике, воплощающей в своих характерах, действии, слоге доподлинные и актуальные для современности коллизии «одной из самых драматических эпох» русской истории, из самой этой эпохи заимствующей художественные, в том числе и стилистические, краски ее изображения. В последнем и состояло для Пушкина собственно художественное задание его «народной драмы». Но самой «мыслью» этой драмы Пушкин, по его признанию, был «обязан» Карамзину, которому и «следовал в светлом развитии происшествий». Говоря так, Пушкин подчеркивал, что самостоятельные исторические изыскания в его задачи не входили, что он почерпнул весь необходимый ему материал у Карамзина, включая и его историческую концепцию. Пушкин воспользовался ею как уже известной читателю исторической канвой, удостоверяющей национальные «обстоятельства», обнимаемые действием драмы, а тем самым и «правдоподобие чувствований» ее героев как характеров доподлинно народных, т. е. национально-исторических (11, 178: «О народной драме и драме „Марфа Посадница“ Погодина»). Таким образом, полемика с концепцией Карамзина никак не входила в замысел «Бориса Годунова» и не могла совместиться с ним.
В принципах же построения драматургического характера Пушкин следовал не только Карамзину, но и Шекспиру, взяв за образец его исторические хроники. Под сообразным им «вольным развитием характеров и свободным составлением планов» Пушкин разумел свою творческую независимость от современных ему драматургических «предубеждений» и «пристрастий», разделявших «классиков» и «романтиков», а вместе с тем и неспособность тех и других уловить объективную логику национально-исторического характера, выступающего у классиков в роли носителя абстрактных общечеловеческих пороков и добродетелей, а у романтиков — рупором лирических излияний автора. Последнее Пушкин именовал «байроничаньем». То обстоятельство, что он считал «Бориса Годунова» трагедией сугубо и доподлинно «романтической», этому не противоречит. В пору ее создания Пушкин резко расходится со своими ближайшими литературными единомышленниками в самом понимании романтизма, именуя «истинным романтизмом», о котором «все имеют у нас самое темное понятие» (13, 184), не что иное, как реалистические тенденции и принципы собственного творчества, вполне осознанно и целеустремленно заявившие о себе «Борисом Годуновым» и «Евгением Онегиным». Одновременно Пушкин приходит к мысли о несостоятельности всякой однолинейной литературной позиции, включая и романтическую. В феврале 1826 г. он пишет П. А. Катенину: «Многие, (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли» (13, 262).