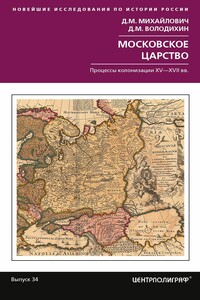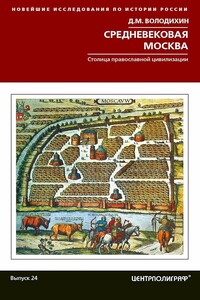Сформулирую постановку вопроса радикально — возможно ли, на основании имеющихся источников, говорить о триумвирате или соправительстве Ярославичей?
На пространстве летописных статей ПВЛ за 6565–6576 (1057–1068) гг. совместная деятельность Изяслава, Святослава и Всеволода отмечена несколько раз. Явные упоминания о совместных действиях Ярославичей читаются: под 6567 (1059) г. — освобождение из поруба Судислава; под 6568 (1060) г. — поход на торков; под 6575 (1067) г. — поход против Всеслава Полоцкого и его пленение; под 6576 (1068) г. поход против половцев, закончившийся поражением русских войск на реке Альта.
К числу неявных упоминаний можно отнести сообщение под 1057 (6565) г.: «Преставися Вячеславъ снъ Ярославль Смолиньскѣ и посадиша Игоря Смолиньскѣ из Володимеря введше»[579]. Само построение фразы и использование аористов множественного числа («посадиша», «выведше») говорит о коллективном характере действия. Несмотря на то что в современной литературе встречаются оценки событий 1057 г. как одиночных действий Изяслава[580], тем не менее я полагаю, что данное сообщение однозначно говорит в пользу действий триумвирата.
Таким образом, высказанная А.Е. Пресняковым еще в начале XX в. точка зрения по вопросу совместного действия трех старших Ярославичей продолжает и поныне оставаться актуальной. Кроме того, Пресняков одним из первых обратил внимание на сообщение поздних летописей о разделе смоленского владения между старшими Ярославичами по смерти Игоря[581]. Историк был склонен видеть в этом известии отражение политики сосредоточения в руках старших Ярославичей «всех волостей Русской земли»[582].
Признавая триумвират Ярославичей (во всяком случае, до 1068 г.) реальным фактом политической жизни, приходится констатировать, что Ярославов ряд в качестве правовой нормы во второй половине XI в. вряд ли действовал в полном объеме (при этом не могу не задаться вопросом — действовал ли он вообще?); во всяком случае, в части старейшинства Изяслава.
Дело тут даже не в слабости Изяслава или в его неспособности отстоять свои права перед лицом братьев, как полагает ряд историков[583]. Изучение триумвирата как самодостаточного явления (даже в рамках междукняжеских отношений), на мой взгляд, резко сужает проблемное поле исследования. Вне рамок исследовательского интереса остаются те процессы, которые происходили на обширном пространстве Русской земли во второй половине XI в. Речь идет о процессах территориальной, политической и государственной консолидации.
§ 2. Становление городской общины Киева во второй половине XI — начале XII в.
Как было показано в предыдущей главе, территориально-политическое развитие Русской земли со второй четверти XI в. вступило в фазу превращения городских поселений (городов и пригородов) в самостоятельные субъекты политической жизни, стремящиеся к независимости от княжеской власти.
Сама постановка вопроса о городской общине в Древней Руси до сих пор вызывает активные дискуссии. Одним из главных объектов полемики являются критерии определения сущности городской общины как социального явления, а также аутентичность Источниковой базы.
Не касаясь напрямую вопроса о том, какими терминами описывалась в древнерусских источниках городская община, попробую предложить косвенные критерии наличия/отсутствия городской общинной организации.
Пример Новгорода, на мой взгляд, показывает, что таковым критерием может являться кончанско-уличанская структура. Анализируя тексты берестяных грамот и совокупный археологический свод данных, А.В. Арциховский предположил, что низовое первичное звено городской общины являлось совокупностью усадеб, расположенных на данной улице; историк даже называет уличан «самоуправляющейся корпорацией»[584].
Эту идею поддержал и развил Я.Н. Щапов, проследивший эволюцию уличанской структуры в Новгороде в XIII–XIV вв.: «улицы» несли городские повинности по поддержанию в порядке мостовых, на средства «уличан» ставились церкви, представители «улиц» участвовали в переговорах с великим князем. Но особенно важным для нас представляется другой вывод ученого: «…в XI в. начальная организация новгородских улиц не отличалась значительно от существовавшей в других городах». Отсюда проистекает и главная мысль о том, что «…протоструктура уличанской организации не была новгородской особенностью, но имела более широкое распространение в древнерусских городах XI–XII вв.»