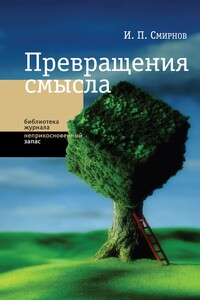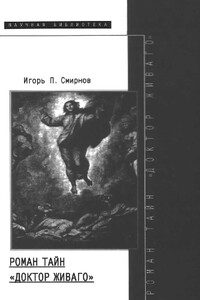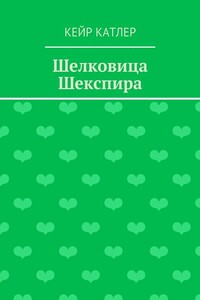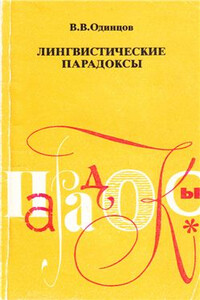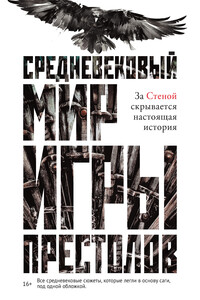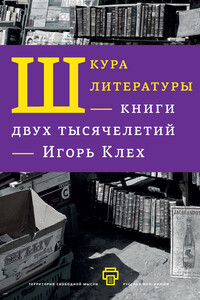От противного. Разыскания в области художественной культуры - страница 21
Намеренное оживление проверенных способов литературного письма нашло у Сельвинского выражение в имитировании хорошо известных жанров (в частности, стихотворного романа – в «Пушторге», 1929) и привело к порождению симулякров, копированию, удостоверяющему не столько ценность оригиналов, сколько свою собственную актуальность. Подражательность как злоба дня вскоре станет одной из главных предпосылок тоталитарного искусства. Делая упор на «учебу у классиков» в ущерб инновативности, оно все же разнится с литературным конструктивизмом, которому было важно не только преодолеть негативный пафос раннего авангарда, но и закрепить в преемственности его завоевания. Это наследование было отнюдь не мирным, агональным. Конструктивизм застрельщиков авангарда и тот, который сформировался в полемике с футуризмом и Лефом, не совсем похожи друг на друга[119]. Тогда как для первого из них функционализация творческого акта была средством борьбы с l’art pour l’art, с прекрасным-в-себе и для-себя, второму хотелось бы видеть саму художественную продукцию внутренне целесообразным построением, где каждый ингредиент отвечает задаче, которую оно ставит себе по своему усмотрению. В коллективной «Декларации Литературного центра конструктивистов» читаем:
Конструктивизм ‹…› формально превращается в систему максимальной эксплоатации темы, или в систему взаимного функционального оправдания всех слагающих художественных элементов, т. е., в целом, конструктивизм есть мотивированное искусство[120].
Восстановительные работы в приложении к недоразрушившемуся произведению раннеавангардистского искусства означали, что оно обретает тотальность – тот же эффект нацистская и сталинистская «консервативные революции» вызывали в социополитической сфере, потрясенной до того Мировой войной и свержением обветшавших режимов власти. В своей сотериологичности эти работы, на каких бы участках культуры они ни проводились, повторяли, пусть в зеркальном порядке, те спасительные мероприятия, которые не позволяют считать вступительные такты авангардистской эпохи исключительно иконоборческими.
Реабилитация того, что было осуждено и дискредитировано в 1910-х – первой половине 1920-х гг., влекла за собой готовность нового творческого поколения признать свою зависимость от объективно данного, побеждающего субъективное видение вещей, скажем их разложение на плоскости в кубизме и их дефигурирование в абстрактной живописи. «Neue Sachlichkeit» и ОСТ возвращаются к передаче на полотне непринужденно узнаваемой действительности, если и остраненной, то не по воле живописца, а вследствие ее собственного выламывания из рутины. Человеческое тело принимает необычное положение в пространстве, потому что оно спортивно (как, например, в цикле картин (1924–1934) Александра Дейнеки, посвященных футболу), и деформируется, потому что искалечено войной (как, например, в «Инвалидах войны» (1926) Юрия Пименова и у Георга Гросса). Объектное превосходит субъектное. Чем меньше субъектного в существах, отобранных для изображения, тем они грандиознее: таковы гипертрофированные фигуры двоих детей, нависающие над городом, у Пименова («На балконе», 1928), и образы умерших – великанов по сравнению с живыми – на полотне Соломона Никритина «Прощание с мертвыми» (1926). Как и поэзия Литературного центра конструктивистов, изобразительное искусство остовцев не лишено симулятивности. Там, где пионеры авангарда вводили в поле зрительского восприятия реальную фактуру использованных ими (в коллажах и иных арт-объектах) материалов, Давид Штеренберг лишь иллюзионистски воссоздавал ее на своих картинах, как бы ощупывая глазом узорчатость и неровности разных поверхностей (дерева, ткани и т. д.).
В версии, противоположной реставрационной, авангард-2 (обэриуты, сюрреалисты) расписывался в неспособности двигаться ни вперед, ни назад на хроногенетической оси. Поступательная динамика текста гасится тем, что рисуемое в нем событие отменяется по ходу сюжетного развертывания: неясно, совершила или нет преступление заглавная героиня в пьесе Хармса «Елизавета Бам» (1927). Сходным образом текст оказывается неадекватным историческому прошлому, которое наполняется анахронизмами и обращается в нонсенс в «Комедии города Петербурга» (1927) Хармса и в «Минине и Пожарском» (1926) Александра Введенского. Отрезающее себе путь в грядущее и не справляющееся с минувшим, литературное произведение перестает быть историко-культурной ценностью – оно принадлежит ничего не значащему текущему моменту («…вот части часа всегда были, а теперь их нет»