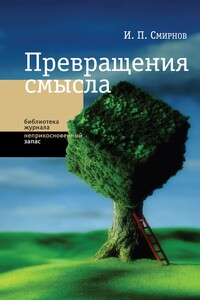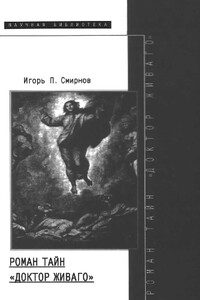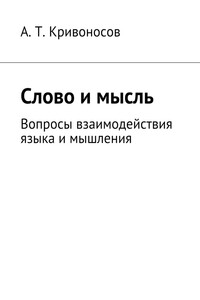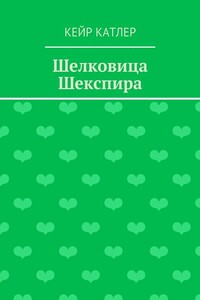В своей внутренней эволюции ранний авангард преобразовывался там, где он отваживался на самый радикальный отрыв от устоявшегося творческого воображения. Место медиальных средств, не затрагиваемых иконоклазмом, заняла действительность, эстетически отмеченная в той степени, в какой художник отбирал из нее те или иные объекты, или в той, в какой он соучаствовал в ee (само)переделке (в «жизнестроительстве»). Если искусство перестает быть даже пустым медиумом, то тогда художнику не остается ничего иного, кроме манипулирования реалиями. Пресловутый «Фонтан» Дюшана, который многие исследователи объявляют репрезентативным для авангарда в целом[113], – всего лишь один из многих случаев в обозначенной парадигме. Эстетическим феноменом писсуар становится постольку, поскольку выступает как вещь, у которой отнято утилитарное применение. Она – результат все того же вычитания, какое еще недавно производилось в силовом поле искусства, а теперь опрокинулось на среду повседневности. Примат действительности над художественной «имитацией жизни»[114] централен и для лефовской «литературы факта» или для «киноправды» Дзиги Вертова, но с тем отличием от провокации Дюшана, что в этих начинаниях еще сохраняет свою силу медиум словесного творчества resp. фильма. Искусство и действительность легко меняют свои позиции, потому что уже на старте авангард, исключивший себя из ранее эстетически допускавшегося, осмыслял свои создания как эквивалентные практическому миру. Подчеркивание такой равнозначности было свойственно авангардистской ментальности на всем ee протяжении, несмотря на совершавшиеся в ней трансформации. В не опубликованной в свое время статье о «конкретной живописи» Кандинского (1936) его племянник Александр Кожев писал о том, что абстрактная картина, не будучи отражением чего-то определенного, сама есть момент «существования», «часть мира»[115]. Теми же словами (с метафорической иллюстрацией) аттестовал в одном из писем к К. В. Пугачевой (16 октября 1933 г.) «истинное искусство» Даниил Хармс, убежденный в том, что в своей близости к обиходным реалиям оно способно «к самостоятельному существованию»: «…стихи, ставшие вещью, можно ‹…› бросить в окно, и оно разобьется»[116].
3
Сказанное выше не претендует ни на что более, кроме постановки проблемы в самом первом приближении. Но и в беглых заметках о щадящем нигилизме авангардистской революции нельзя вовсе обойти вниманием ее развитие, которое не исчерпывается предпринятым самими бунтарями первого поколения сдвигом от натурализации собственно эстетического к открытию такового в «готовых предметах» (тем более что смешение арт-объекта с объектом per se было общим для разных стадий радикального постсимволизма, пока тот не сменился постмодернизмом). В середине 1920-х гг. на социокультурной сцене в России появляются участники Литературного центра конструктивистов, художники из Общества станковистов (ОСТ), обэриуты-чинари; тогда же в Германии возникает «Neue Sachlichkeit», a во Франции сюрреализм. Голливудский кинематограф совершает переход от немых к звуковым лентам. Самоутверждаясь, этот авангард-2 был вынужден конфронтировать с устремленностью авангарда-1 к завершению истории искусства в тех последних состояниях, в каких художественное произведение так или иначе еще может быть самим собой вопреки грянувшему краху любых эстетических норм[117]. В распоряжении авангарда второй волны имелись две стратегии по преодолению такого апокалиптического положения дел. Одна из них заключалась в реставрации того, что было потеряно ближайшими предшественниками, другая – в пародировании достигнутого ими.
Реставраторство определило собой программу литературного конструктивизма. Ведущий поэт этой группировки, Илья Сельвинский, объявил ее ориентацию на прошлое выходящей за рамки безотчетного наследования образцам:
Если всякая поэтическая школа, в той или иной мере, традиционна, то школа конструктивизма традиционна вдвойне, так как ее традиции вполне осознаны ею, хотя и подвергнуты сплавливанию при высокой температуре с новой самостоятельной поэтикой конструктивизма ‹…› – это двуликий Янус, глядящий одновременно в будущее и прошедшее