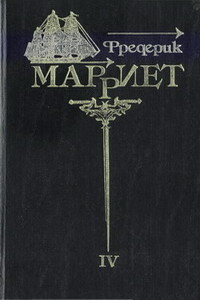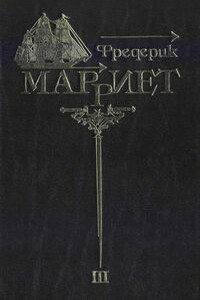“Пора, пора, Ашотик. Смелее, певец!”
– Прикажи, господин мой, – воскликнул с отчаяньем в голосе евнух, – прикажи ему не смеяться!
И вытянул толстенький пальчик в сторону Гусейна.
– Это почему же? – всё ещё не убирал довольной улыбки с побагровевшего лица Хумим-паша.
– Потому что, эфенди [74], смеётся он над тобой.
Мёртвая тишина пала вдруг на пирующих, как будто выпрыгнула из углов. Отчётливо потянуло мимо ноздрей дымком от горелой человеческой кожи, завозился в ушах хруст костей. Вдавились в жирные бока локти, к телу поближе, как бы ускользая от безжалостных лап палача.
– Как смел ты сказать то, что сказал? – могильным голосом произнёс Хумим.
– Потому смел, великий вали, что обида за тебя – сильнее страха.
– Надеюсь, ты понимаешь, что говоришь? – медленно выговорил Хумим-паша (евнух кивнул). – Расскажи тогда нам, почему Гусейн-ага смеётся над нами.
– В гареме, у жён твоих, о мой эфенди, мусор и пыль. Воду сегодня не меняли. Лёд, привезённый с гор, в ледник не опустили, и он растаял. Жёны грустные, им не услуживают. Всё это потому, что евнухи не здоровы. А не здоровы они оттого, что привезли в гарем незрелые сливы. А вот это уже из-за того, что уважаемый Гусейн-ага получил от поставщика фруктов бакшиш, чтобы поставщик мог привозить к нам плохие продукты, а деньги получать, как за хорошие. Ради своего бакшиша Гусейн-ага растревожил твой гарем, о великий вали, потравил твоих евнухов, о великий вали, – и смотрите! – смеётся. Скажи мне, эфенди, что я не прав, прося тебя запретить ему смеяться.
Медленно повернул Хумим-паша голову в сторону гостей, чуть кивнул белою чалмою с длинным красным пушистым пером. Молча, проворно и хищно снялся со своего места янычар-ага Аббас, с взметнувшимися по бокам складками чёрного плаща, словно ворон, отлетел к дверям. Каркнул что-то тихонько.
– Спой что-нибудь жалобное, – с показным спокойствием сказал вали дрожащему евнуху.
Ашотик с усилием – и тоже на показ – сглотнул, вздохнул глубоко. Помолчал, вздохнул ещё раз. Взял в пухлые, цепкие ручки небольшой медный барабан – начищенный, красный – и, несильно в него ударяя, запел невесёлую, длинную песню.
Катились над оцепеневшими пирующими тоскливые, перепеваемые повторы, а по ночному Багдаду катилась, сея ужас и грохот копыт, янычарская конная лава. Не дожидались воины, когда им откроют двери на стук. Выламывали двери – мгновенно и молча. Хватали раздетых, и сонных, и изумлённых людей, и мчались назад, в тёмный, страшный дворец Аббасидов.
Ашотик всё ещё пел, когда у решётки дверей послышался осторожненький шорох. Аббас-ага слетал к ней ещё раз, принял словечко, повернулся к вали, поклонился. Тот снова кивнул чалмою с пером. Раздвинулись двери, протащили сквозь них двух полураздетых людей. Бросили на пол перед Хумимом. Все замерли. Аббас-ага подошёл, тронул одного из распростёртых на полу людей, поднял на колени.
– Кто ты? – внимательно глядя, поинтересовался вали.
– Суджу [75], о эфенди, – пролепетал человек.
– Прочь его. Этот кто?
– Я… Я поставляю вам фрукты… – едва ворочая языком, пролепетал второй, ещё, кажется, не совсем проснувшийся человек.
– Ты дал моему Гусейну бакшиш, тайные деньги. Чтобы тебе торговать не мешали. Дал, как известно, десять курушей. Ты обидел его такой маленькой суммой.
– О господин мой! – отчаянно взвыл фруктовый барышник. – Это неправда! Пятьдесят курушей я отдал ему, и месяц назад – ещё сорок!
(Как смерть побледнел Гусейн.)
– И вчера ты привёз сюда сливы.
– Да, господин. Хорошие, спелые сливы!
– Это известно.
Откинулся на подушки вали, довольно прищурил глаза. Махнул в сторону человека пальцем. Того утащили, неслышно сомкнулись ажурные двери.
– Спешу сообщить тебе, Гусейн, что я очень, очень тебя уважаю, – лениво проговорил вали, и над головами гостей пронёсся, снимая чудовищное напряжение, мучительный вздох: теперь – хорошо. Теперь – понятно, на кого падёт ужасающий гнев великого вали, наместника стамбульского султана в Багдаде.
И трусливые, жадненькие, злорадные взгляды прокрались в пространстве и остановились на рыжем маленьком дерзком певце. Что-то будет. Что-то – что-то – что-то будет. Позовёт янычар, поднимут пухлую тушку на копья? Привяжут к поясу камень и сбросят в воды бесстрастного Тигра? Или медленно нанижут на остро оструганный кол, и наглый певец изойдёт истошной последнею песней?