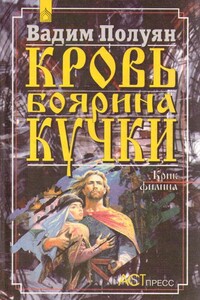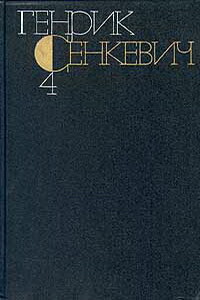Ясным зимним утром шагах в двухстах от Покровской заставы Степко с Федьком остановили коней. Смурые, необщительные, они глянули на Евфимию исподлобья, как на виновницу обременительного для них пути.
- Дальше не идём, - объявил Степко. Федько спросил:
- Коня возьмёшь или нам отдашь? Евфимия спешилась, отдала поводья.
Шиши ускакали с поводным конём. Она вошла в город, заставщики не остановили её.
Чем ближе к Торгу и кремнику, тем гуще двигались сани - дроги, пошевни и возки, - прижимая прохожих к тынам.
У Живого москворецкого моста чернела толпа. Евфимия подошла, спросила молодайку в убрусе:
- Что здесь?
Та отвечала, не оборачиваясь:
- Людей казнят.
- Когда же Бог спасет нас от всего этого? - не кому-нибудь, а скорее самой себе вслух произнесла Евфимия.
Тут же к ней подкатился с двумя сумами через плечо старенький нищеброд, охотник порассуждать.
- Бог хочет, чтоб все спаслись, - изрёк он. - Овогда человеколюбие своё и милость являет, овогда же казня, беды дая, насылает глады, бездождье, смерть, тучи тяжкие, поганых нахождения…
Душераздирающие крики пронеслись над толпой, и толпа затихла. Нищеброд так и остался с открытым ртом.
- Что там? Что там? - спрашивали задние у передних.
Люди стояли плотно, протиснуться не было никакой возможности.
Передние отвечали задним:
- Овому носы среза, овому очи выима… Как князя Василья на зло навели!.. Всяк бо зол зле погибнет!
Толпу вновь заставили стихнуть уже не крики, а стоны.
- Что там?
- Прокололи бока, захватили за ребра, подымают на виселицу…
Евфимия, пошарив в многолюдстве глазами, нашла монашествующего в скуфейке с глиняной чернильницей на животе, с пером за ухом. Сразу скажешь: пишет челобитные на Торгу за добрую мзду. Лик важный, борода - надвое.
- Не ведаешь ли, учёный муж, кого и за что казнят?
Писец снизошёл взором к любопытной.
- Изменников государевых. Замысливали неладно. И для того они за такие свои проклятые дела и вымыслы вящим мучением колесованы.
- А допрежь кнутом биты, - вставила всеведущая торговка.
Толпа всколыхнулась, стала редеть. Из гущи выпихнулся дородный гость, охабень распахнут, бобровая шапка набекрень. Чем-то он напомнил ушкуйников, наблюдённых в Новгороде Великом.
- Нецего тут смотреть. Концено. Целовеков зарезали, мясо режут.
- Переказнили всех, - вторила ему щепетуха, выплывавшая следом, как лодка за кораблём.
Евфимия подступила к явному новгородцу:
- Имён не помнишь, добр человек?
- Отцего ж? Помню. Объявляли. - Он смерил взором странную жёнку с подозрительностью, полной беззлобия. Мол, не злодейского ли поля ягода? Ну да Бог с ней! Начал перечислять имена: - Подеиваев Лука, Бренн Парфён, Давыдов Владимир… Иных не упомню. - И размашисто зашагал к питейному заведению на мосту.
Евфимия шла за ним. С трудом из-за толчеи миновала мост. Пересекла Торг. Вошла, крестясь, во Фроловские врата. Свернула вправо, направилась вдоль стены. Вот и женская обитель, учреждённая великой княгиней Евдокией, вдовой Донского. Церковь Воскресения никак не достроят. Стоит без верха. Стены и воды подведены по кольцо, где быть верху. Он ещё не сведён.
Евфимия остановилась у привратной калитки. Остоялась. Потом решительно пошла внутрь Кремля, к двору Ховрина, где возвышалась каменная церковь юз движенья. Когда-то входила сюда с отцом. Памятны его слова: «Моё решение несовратно!» Храм и тот, да не тот. Выстроен заново взамен распавшегося в пожаре, при коем Марья-разлучница вызволила её из пылающего дворца. Новый храм величественнее, просторнее. Не пожалел Ховрин средств!