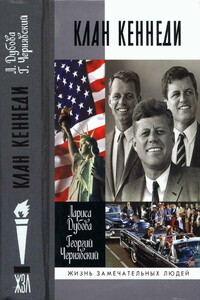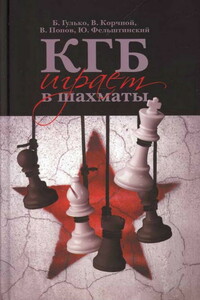Особенно интересной была мысль Оруэлла, что тоталитаризм, контролируя мышление, не фиксирует его на чем-то одном: «Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики властей предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины». Любовь и ненависть при необходимости должны были моментально обращаться в свою противоположность. Так, до 23 августа 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к советскому большевизму отвращение и ужас, а после этой даты — восторг и сочувствие; но если между этими странами начнется война, что весьма вероятно, вновь произойдет крутая перемена в оценке действительности. (Эта крутая перемена вскоре произошла: через три дня после выступления Оруэлла на Би-би-си Германия напала на Советский Союз.)
Оруэлл показывает катастрофические последствия таких метаморфоз для художественной литературы: «Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире». В Италии, констатировал он, литература изуродована, в Германии ее почти нет, основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Почти столь же определенно и резко отзывался автор о состоянии литературы в СССР: в ней, по его мнению, не только не произошло одно время ожидавшееся возрождение, но и наблюдается нечто прямо противоположное, видные писатели кончают жизнь самоубийством или исчезают в тюрьмах.
И всё же статья завершалась если не на оптимистической ноте, то по крайней мере с интонацией надежды, что всемирный тоталитарный ад не воцарится. В этом и состояла цель автора — еще раз предостеречь общественность относительно всеобщей опасности тоталитарного наступления, в том числе в собственной стране, в том числе в области культуры. Оруэлл всё еще сохранял зыбкую надежду на появление социализма в нетоталитарной форме, «позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли»: «Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должны сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли нам его извне или изнутри».
К названным статьям теснейшим образом примыкала рецензия на книгу Гитлера «Майн кампф» — «Моя борьба»>>{512}, выпущенную на английском языке в марте 1939 года издательством «Хёрст и Блакетт», занимавшим в то время пронацистскую позицию>>{513}. Проникнутая сарказмом и едва сдерживаемым негодованием в адрес тех, кто воспринимал гитлеровские писания как одну из форм «здравого консерватизма», рецензия была образцом журналистского аналитического искусства. Главное, что ее отличало, — отсутствие пафоса, проклятий в адрес того, кто уже стал символом человеконенавистничества и агрессии. Без громких слов, в отдельных местах даже со следами симпатии (правда, она относилась лишь к тем годам, когда Гитлер писал ее, сидел в тюрьме после неудачного «пивного путча» в Баварии в ноябре 1923-го), Оруэлл стремился разобраться главным образом в социально-психологической стороне нацистской диктатуры, причинах ее поддержки широкими слоями населения Германии и значительной частью влиятельных кругов развитых стран до начала открытой германской агрессии. В ту пору, отмечал Оруэлл, изданная в Великобритании книга Гитлера, преподнесенная «с весьма убогой мыслью», что национал-социализм — всего лишь разновидность консерватизма, была по душе тем, кто готов был простить фюреру очень многое за разгром германского рабочего движения. Это было тем более верно, что предисловие издательства и комментарии к книге представляли Гитлера в наиболее благоприятном свете, всячески приглушая «яростный тон» его воспоминаний.