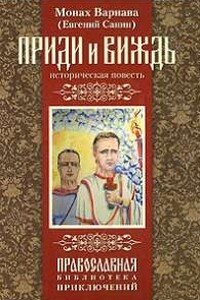Сколько же времени он уже сидит в этом ящике, два часа или четыре? а что делается сейчас в его квартире? Спать в ней, конечно, больше не ложились. Мать, наверно, сидит, глядя перед собой неподвижным взглядом, а голова у нее трясется. А жена приводит в порядок его кабинет. Возможно, она еще продолжает это занятие. Хаос энкавэдэшники устроили страшный, а наводить порядок только для видимости Лена не станет. Предположить, что его жена просто раскисла от горя и сидит, сложа руки, Рафаилу Львовичу даже в голову не пришло.
Как долго, однако! А что если и в самом деле произошло какое-то недоразумение и хам-энкавэдэшник, ipy-биян и воришка, стащивший соблазнительную картинку, получил от своего начальника нагоняй за бестолковость? А Белокриницкого как арестованного без всяких оснований сейчас выпустят, объясняя все перегрузкой, и он помчится домой по предрассветным улицам — трамваи, наверно, еще не ходят, — с сочувствием поглядывая на редких и хмурых прохожих, не способных, подобно ему, понять, какое это великое и ни с чем не сравнимое счастье — свобода!
Да, надо запомнить адрес этого бедняги, арестованного сегодня на улице…
* * *
Щелкнула задвижка. Рядом с привратником, посадившим Рафаила Львовича в ящик, стоял другой. Он жестом приказал арестованному выйти и следовать за ним.
Дежурный по тюрьме сидел за столом в буденовском шлеме с яркой красной звездой. Теперь такие шлемы можно было видеть разве только в кино, на музейных плакатах да на картинах на сюжеты гражданской войны. Возможно, именно поэтому дежурный и надевал архаичный шлем, то ли как символ своей верности революционным традициям ЧК, то ли для вящего устрашения схваченных врагов народа. Он был очень занят и почти не отрывался от телефонной трубки, выслушивая чьи-то приказания и отдавая короткие распоряжения. Дежурный был сам себе телефонисткой и привычно орудовал штепселями старинного телефонного коммутатора, на черной панели которого картинно рисовалась его буденовка.
Работа этого человека напоминала Белокриницкому что-то очень знакомое. Ну, конечно же, это здешний диспетчер. «Сколько?» — спрашивал по телефону человек в буденовке. Получив ответ, он быстро пробегал по столбцам ведомости, лежавшей перед ним на столе, переставляя штекеры в гнездах своего коммутатора и приказывая в трубку: «Четвертый, троих в шестьдесят седьмую!»
Кроме диспетчера, в пустой, довольно большой комнате на скамейке под стеной сидели еще два солдата. Не отрываясь от своей трубки, дежурный произнес, равнодушно взглянув на очередного арестанта:
— Ценные вещи и деньги клади на стол!
Рафаила Львовича снова невольно покоробило непривычное тыканье, хотя на этот раз в нем не было и намека на оскорбительную подчеркнутость. Белокриницкий положил перед дежурным деньги, оставленные у него при домашнем обыске. Тот сделал короткий жест рукой. Один из конвоиров, парень с угрюмым и каким-то сонным выражением лица, взял арестованного за рукав, потянул к табуретке, стоявшей посреди комнаты, и буркнул: «Раздевайся!» Рафаил Львович снял пальто и кепку.
— Догола раздевайся! — сказал конвоир.
Белокриницкого неприятно поразило не столько само это приказание, сколько мгновенное понимание того, что для тюрьмы оно достаточно логично, чтобы быть необыкновенным. И все же, уже снимая с себя одежду и преодолевая почти физическое ощущение унижения и стыда, он еще надеялся, что конвоир скажет «довольно!» Но тот брал в руки очередной предмет, тщательно прощупывал его и перочинным ножом срезал все металлическое — брючные пуговицы, крючки и пряжки — с мясом, оставляя на одежде большие дыры.
Затем выдернул шнурки из ботинок, ремень из брюк, запонки из обшлагов и все это вместе с пристежным воротником сорочки и галстуком отбросил в угол как ненужный хлам.
— Одевайся, быстро!
Рафаил Львович начал торопливо напяливать на себя одежду, но она сползала и распадалась. Брюки надо было поддерживать руками, обшлага сорочки вывалились из рукавов пиджака и нелепо распластались, шея без воротника и галстука по-босяцки выглядывала из рубашки.
Дежурный пододвинул к краю стола выписанную им квитанцию на деньги. Белокриницкий подошел за бумажкой, шаркая ботинками без шнурков и поддерживая спадающие брюки. Чувство стыда и обиды было сейчас сильнее, чем даже тогда, когда он голый стоял посреди комнаты. Впрочем, и дежурный, и конвоиры относились к нему, по-видимому, с полнейшим равнодушием. Парень с физиономией невы-спавшегося кретина заканчивал осмотр собранного Леной узла. Он перещупал белье, грязными руками раскрыл и уже не сложил бутерброды, разорвал и выбросил обертку из-под папирос, а от самих папирос оторвал мундштуки и тоже выбросил. Это вызывало недоумение. Белокриницкий не знал еще, что в здешней тюрьме одним из строжайше запрещенных предметов является даже крохотный клочок бумаги. Папиросы конвоир растер, а табак ссыпал кучкой рядом с положенными на белье бутербродами.