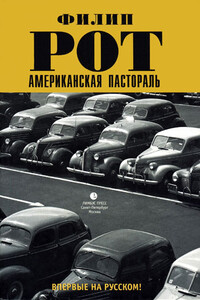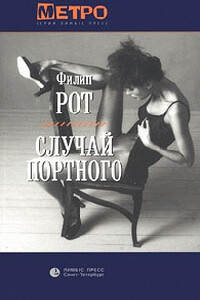Но ничего подобного. Даже совсем провалившись в кресло, он прекрасно все слышал, то есть почти все. Когда мать заводила что-нибудь в сотый раз, он, ясное дело, отключался, но все же более или менее улавливал, куда она клонит. Ей хотелось, чтобы он был послушным сыночком и жил, как ему скажут; хотелось, чтобы он был таким же, как все. Да достаточно разок послушать ее, чтоб хотелось смотаться из города, как только стемнеет. А может, так и сделать? Взять и убежать без оглядки, только решить сначала куда. Для него всегда найдется тюфяк в Сиэтле в штате Вашингтон у старины Уиллоуби. Уиллоуби ведь лучший дружок по армии, а с его младшей сестренкой Рой чуть ли не помолвлен. В Техасе живет другой закадычный друг — Хендрикс. У его папаши свое ранчо, так что Рой может там и отработать кормежку, если вдруг окажется на мели. И еще оставался Бостон. Вот уж где, верно, здорово — это в Бостоне. Это ведь самый исторический город во всей Америке. «Можно и в Бостон, — думал он, когда мать совсем распалялась, — да, сэр, можно прямо сняться с места и двинуть на восток».
Но, по чести сказать, не мешало бы месяц-другой еще покейфовать, а уж там и впрячься всерьез, если к тому времени он решит, на чем остановиться. Полтора года он проторчал в этой богом забытой дыре, — с восьми до пяти каждый божий день в раскаленной конторе мехчасти, а потом еще эти вечера!.. Вряд ли он хоть раз в жизни захочет посмотреть на пинг-понговый шарик… А погодка! После нее Либерти-Сентр покажется джунглями в Южной Америке. Ветер, снег и это бескрайнее серое небо, которое так же радует взгляд, как классная доска, вытертая мокрой тряпкой. А грязища! А жратва! А постель — не постель, а сплошное издевательство: узкая, коротенькая, сырая! Нет, он просто обязан перед самим собой не трогаться с места, пока не доспит недоспанное на этой чертовой кровати да к тому же не даст прийти в норму хотя бы парочке вкусовых пупырышков на языке. Чего и говорить, после армии, конечно, понравится завтракать в светлой, уютной кухне и опять жить в отдельной комнате, и торчать сколько влезет (или просто, сколько тебе надо) в закрытой уборной, чтобы никто не сидел с тобой бок о бок. Да, ему это по душе, это он прямо скажет: позавтракаешь как следует, а не одними помоями с картоном, устроишься в гостиной с «Лидером» в руках, почитаешь в свое удовольствие, не боясь, что кто-нибудь выдернет спортивную страницу прямо из-под носа.
А то, что мать без конца ворчит у себя на кухне, его мало трогает, он не дурак — понимает: она беспокоится о нем, ведь он как-никак ей сын. Она его любит. Только и всего. Досмотрев газету, он иногда заходил на кухню и, не слушая ее глупостей, обнимал мать и говорил, что она славная девочка. Временами он даже подхватывал ее и делал несколько па, напевая какую-нибудь популярную песенку. Ему это ничего не стоило, а мать была просто на седьмом небе.
У нее всегда были самые добрые намерения, у его матери, даже если ее желание побаловать своего мальчика иной раз выходило ему боком. Взять, например, эту посылку с чехольчиками на унитаз, что он получил по почте в один прекрасный день, — сотню больших белых бумаженций, вроде бубликов, которые она увидела на рекламе медицинского журнала, сидя в приемной у своего доктора, и которые, по идее, он был должен подкладывать в туалете — это в армии-то! Сперва он и впрямь было собрался показать их старшему сержанту, раненному в спину при Анцио на второй мировой. Но вовремя сообразил, что сержант Хикки может, не разобравшись, поднять на смех его самого, и поздним вечером, вроде бы прогуливаясь за столовой, выкинул посылку в мусорный бак с замерзшими отбросами, конечно, содрав перед этим надпись на обертке. А там было написано: «Рой, не забывай пользоваться этим. Запомни: не всякий из культурного дома».
Это доказывало, что намерения у нее добрые, но нет никакого понимания того, что ее сын взрослый человек, с которым никак нельзя проделывать подобные штуки. И все же в Адаке он не раз скучал по ней и даже по отцу, и относился к ним совсем как в те годы, когда они еще не начали толковать каждое его слово шиворот-навыворот, и забывал все плохое, что они наговорили ему, а он им, и даже искренне чувствовал себя эдаким счастливчиком, у которого дома заботливые родичи. У них в казарме был один малый, родом из Бойстауна в Небраске, к которому Рой, при всем своем уважении, просто испытывал жалость за все, чего тот лишился, оставшись сиротой. Звали его Куртц, и, хотя Рой не слишком-то любил смотреть на него в столовке — у того была какая-то болезнь кожи, — он не раз приглашал его приехать в Либерти-Сентр (когда они наконец вылезут из этой тюряги) и отведать домашней кухни. Куртц отвечал, что он, конечно, не против. Да и кто бы был против — вся казарма не могла дождаться очередной посылки с так называемыми «гостинцами мамаши Бассарт». Когда Рой написал матери, что она самая популярная после Джейн Рассел красотка в их казарме, она стала присылать по две коробки печенья — одну для Роя, другую для его «дружков».