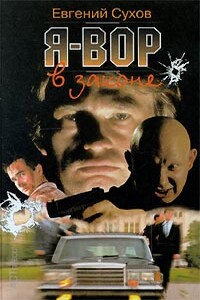Дмитрий стоял на самой вершине горы и представлял, как завтра вершок за вершком будут теснить московские полки его воинов. И двух часов не пройдёт, как одолеют они вершину, а его возьмут в плен.
Ещё вчера Дмитрий обходил свои полки и видел, как неторопливо, со знанием дела готовятся дружинники к бою: прилаживают поудобнее к телу кольчуги, затачивают мечи, надевают чистое исподнее. Но не было у них того боевого задора, с каким собирались полки со всей Русской земли воевать против недругов. В тот вечер Дмитрий прочитал на их лидах свою судьбу. Не осталось в ратниках былой веры в князя, не верили они и в свою победу.
И можайского князя нет — почуяв недоброе, слетел он с прежнего места и перекинулся к московскому хозяину. Бояре, словно чувствуя близкую кончину галицкого князя, отводили глаза в сторону.
Ходил Дмитрий от полка к полку. У одного костра заметил молодого иконописца Елисея из Троицкого монастыря. Церковный суд год назад приговорил его к сожжению за то, что он написал уродливого Христа. А на вопрос игумена: почему у него Бог со страшным оскалом и больше напоминает татя, нежели мученика, отрок отвечал: «Разве не страдает наш народ от междоусобицы? Разве мало льётся крови, разве не пропитаны ею поля и луга?! Всё это видит наш Господь, вот оттого и лицо у него такое уродливое».
Инока должны были сжечь на сосновом столбе, уже стянули ему руки и обложили соломой, когда вдруг за него вступился галицкий князь. Дмитрий выкупил богомаза за золото и наказал: «Ты для меня будешь писать своего Христа. Именно такой он мне и нужен».
И сейчас, глядя на полотнище с уродливым Спасом, Шемяка усомнился: «А может ли он принести победу?»
Дмитрий подошёл к иконописцу. Он тоже признал князя, хотя тот был в обычной кольчуге, совсем не желал выделяться на поле брани парадными доспехами. Низко поклонился Дмитрию и сказал:
— Вчера икону я писал... А перед тем пост соблюдал, чтобы очищенным к доскам подойти.
— И какой же у тебя Христос вышел? — поинтересовался князь.
— Обычный, не было у него уродства на лице, — просто отвечал иконописец. — Видать, войне братской конец приходит. Ты уж прости меня, князь, — стал оправдываться монах.
Дмитрий Юрьевич не ответил, передёрнул плечами и отошёл в сторону. Выходит, и этот отрок в победе разуверился. Впрочем, он мёртв с тех самых пор, как угодил к сосновому столбу. Невозможно одной рукой писать иконы, а другой рубить головы.
Боярин Ушатый огромной сутулой тенью следовал за князем и, несмотря на свой рост, казался незаметным, но Дмитрий не оборачивался, знал, боярин здесь.
— Князь, — наконец осмелился нарушить молчание Иван Ушатый, — тут ко мне двое из московской рати подошли, сказали, что Василий завтра атаковать будет... сразу после утренней молитвы.
— Встретим гостя как надо... я сам в первых рядах буду, только хлеба с солью пускай от меня не ждёт!
Полки Василия вышли из-за леса не спеша. Некоторое время полки стояли друг против друга. А потом по взмаху московского воеводы ратники головного полка, подгоняя коней плетьми, поскакали в гору, где застыла Дмитриева рать.
Грохнул первый залп, который оставил на чёрной земле бьющихся лошадей, убитых всадников, а следом за ним ещё один, и каменные ядра со свистом рассекали воздух и рыхлили мёрзлую пашню. Всадники уже забрались на сопку, острым клином рассекли войско галицкого князя и стали теснить его к стенам, чтоб расплющить о серый камень.
За головным полком на сопку уже взбирались полки правого и левого флангов, отрезая Дмитриевой дружине последний путь к отступлению. Завязался бой: вязкий, тяжёлый, и звон железа заглушал крики раненых.
Дмитрий Шемяка рубился на самой вершине. Он видел, как один за другим падали сражённые отроки, а из-за леса, размахивая мечами, шли всё новые отряды Василия. И часа не пройдёт, как они заполнят собой всё поле, станет тесно и на вершине. Вот тогда уже не выбраться!
Полки Шемяки отступали к городу. Со стен по воинам московского князя палили наряды. Каменные ядра летели совсем не туда — разбивали в Щепы деревья, дробили землю и бестолково улетали в чащу. Ратники плотной стеной окружили остатки галицкой дружины. Это были последние минуты некогда могучего и сильного зверя, и оттого натиск московской дружины становился всё более яростным.