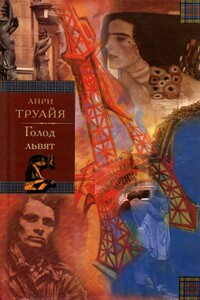Я понял: стоило мне оказаться с ним лицом к лицу, и нить рассуждений оказалась утеряна. Все, что до сих пор было ясно, все, что мое сознание воспринимало как очевидное во время одиноких раздумий в четырех стенах комнаты, немедленно начинало затуманиваться, вскипать, бурлить… стоило сесть напротив этого убийцы во плоти, этого старика с потрепанной физиономией, с тяжелым взглядом и бородкой, как у императора, стройный план грозил рассыпаться в прах. А он теперь потирал руки, утратившие с возрастом гибкость. Ревматизм мучает…
Вдруг Дантес спросил:
— А что, Пушкин и на самом деле был таким великим поэтом, как говорили?
— О да, месье! — воскликнул я.
— Вроде Виктора Гюго?
— Нет, куда больше!
— С каким же французским писателем вы могли бы его сравнить? — с едва заметной усмешкой поинтересовался барон.
— Ни с каким, сударь. Он был… он был уникален… Пушкин был один.
Я тут же пожалел о своем ответе: мне следовало придерживаться его мнений, ежели я хочу сохранить его доверие до конца. Явно недовольный пылкостью и категоричностью моего ответа, Дантес нахмурил брови и проворчал:
— Да… да… возможно… Однако, в любом случае, сегодня-то уже ни к чему так восхвалять его…
Мне внезапно пришло в голову, что для Дантеса смерть Пушкина стала чем-то вроде драмы на охоте. Этакий случайный выстрел: думал, что прицелился в зайца, а попал в почетного гостя хозяев замка. Досадная ошибка. Промах. Не более того. А русские, видите, из мухи слона сделали. И еще мне показалось, что он сожалеет о своем порыве, сожалеет об исповеди перед простым секретарем. Вялым жестом руки барон сделал мне знак идти работать. Я был счастлив оказаться наконец в своей заваленной бумагами берлоге.
Не успел я вечером прийти домой, как ко мне явился Даниэль де Рош, еще более возбужденный, чем обыкновенно. Бледный как смерть, глаза вытаращены, галстук набок… Ворвавшись, сосед почти закричал:
— Вы слышали? Вы в курсе? Эти клевреты Империи полагают, будто им все позволено! Между ними и нами идет война! Открытая война!
Он сунул мне под нос «Марсельезу», где на первой полосе была напечатана статья Рошфора, окруженная траурной рамкой. Клеймя убийцу Виктора Нуара, необузданный памфлетист прямо призывал всех противников режима объединиться и превратить похороны убитого его коллеги, которые должны были состояться назавтра, в массовое шествие.
— Хотите, пойдем туда вместе? — нетерпеливо спросил Даниэль.
Среда. День, когда я у Дантеса не занят. Настолько же от нечего делать, сколько желая бросить вызов, я согласился пойти. Вечер мы провели в ресторане, и сосед, не умолкая, комментировал преступление Пьера Бонапарта. А я… я еще и раздувал его пыл — с такою же легкостью, с какой поддакивал Жоржу Дантесу, когда тот оправдывал поведение принца. На самом деле все это было мне совершенно неинтересно, все, что происходило во Франции, оставалось чужим для меня. Единственным обстоятельством, привлекавшим меня в деле Виктора Нуара, точнее — в деле Пьера Бонапарта, было его сходство с тем приключением, какое я наметил пережить себе самому. Можно подумать, Небо поддерживает мое намерение, ведь мне была предложена словно бы сценическая репетиция того, что вскоре должно было произойти в кабинете барона Жоржа Дантеса. Объяснение в нескольких словах, выстрел, падающее тело… Наверное, я мог бы вызвать барона на дуэль, но, на мой взгляд, он подобной чести не заслуживал. И потом… потом, он был слишком стар для поединка. Что же до продолжения, то — посмотрим: если принцу вынесут оправдательный приговор, а это вполне возможно, то почему не оправдать меня? Впрочем… если меня приговорят к смертной казни — еще лучше! Я был заранее согласен пожертвовать жизнью и, умирая, я обеспечил бы себе бессмертие!.. Даже мысль о горе, которое причинит мой поступок матушке, не удерживала меня: я знал, насколько моя матушка легкомысленна, и понимал, что убиваться она станет не дольше, чем вдова Пушкина.
На следующий день я отправился с Даниэлем де Рошем на похороны. Вынос тела состоялся в Нейи — там жил покойный. Улицу Перроне охраняла полиция. Когда мы прибыли, здесь как раз только-только пришел в медленное движение траурный кортеж. Громадная гудящая толпа окружила катафалк, заваленный венками. Людская река потекла по Нейи к столице. Продвигались, шаг за шагом, выкрикивали политические анафемы, пели «Марсельезу»… В этом колышущемся потоке были одни мужчины — вот доказательство того, что все тут всерьез! Некоторые размахивали дубинками. Внезапно шествие взорвалось криками радости, кажется, не было ни единой глотки, которая не исторгла бы его: манифестанты перерезали поводья лошадей и сами впряглись в катафалк, желая довезти тело жертвы до места последнего упокоения своими силами. Какой-то оратор, заменив на сиденье возницу катафалка, разжигал толпу. Тяжелая повозка в траурном убранстве рывками двигалась к центру французской столицы.