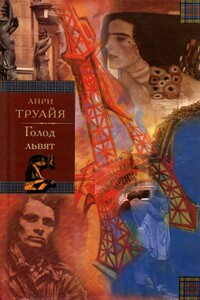Свидание инспектора полиции с Дантесом опасно затянулось. Я даже и не пытался подслушивать. Моя судьба решалась рядом, в двух шагах от меня, а ни единого средства проникнуть в кабинет и предотвратить катастрофу не было. Сидя в своей душной каморке, заваленной бумажными грудами, я чувствовал себя загнанным в мышеловку. Хуже того: в ловушку, из которой выйду в наручниках. Сердце то замирало, то начинало как-то противно дрожать. В панике я начал было подумывать о том, нельзя ли сбежать через другую дверь — ту, что выходит в коридор, но только собрался подойти и открыть ее, вошла мадемуазель Корнюше со своим неизменным подносиком. Наступил час вечернего чая. Я пробормотал, что не хочется, что не голоден, что не испытываю жажды, что мне нужно уйти, — она забеспокоилась:
— Вы плохо себя чувствуете?
— Нет, нет… просто тороплюсь… видите ли… назначена встреча… свидание… тотчас…
Должно быть, вид у меня был потерянный, потому что Изабель попыталась настоять на своем:
— Погодите еще совсем немножко, месье Рыбаков!.. Господин барон недолго еще будет занят… Инспектор пришел к господину барону из-за нашего кучера: его вчера задержала полиция во время драки перед театром Пале-Рояль…
Дальше я не слышал. Нервы отпустили так внезапно и резко, что секунды на три я попросту онемел и стоял, пошатываясь, с открытым ртом. Ложная тревога. Ничего не случилось. Мои шансы ничуть не уменьшились. Я тут вообще ни причем. Кучер! Драка какая-то! Милая домашняя жизнь может продолжаться. Она будет продолжаться. Меня охватило сумасшедшее желание расцеловать мадемуазель Корнюше за добрую весть. А она улыбалась мне, спокойная, невинная, такая, как всегда. Я взял у нее из рук поднос и вернулся к столу, чтобы напиться ароматного чаю с эльзасским пирогом. Экономка ласково смотрела на меня, пока я ел. Я вспомнил матушку. Та же нежность в движениях, то же простодушие сердца. У меня на глазах выступили слезы.
Как только я прикончил чай с пирогом, господин барон позвал меня в кабинет. Инспектор Вокур только что ушел. Путь был свободен. По установившемуся уже обычаю я предъявил выполненную сегодня работу. Дантес взял папку своею пухлой рукой и сказал:
— Устал я что-то сегодня… Давайте посмотрим это в пятницу… Впрочем, и смотреть не надо, я доверяю вам: наверняка работа, как всегда, безупречна.
Слова «я доверяю вам» вознесли меня на седьмое небо. Из кабинета я не вышел — вылетел на крыльях. Настроение было самое что ни на есть праздничное. Мадемуазель Корнюше перехватила меня почти у выхода: на улице дождь полил как из ведра, и она предложила мне зонтик.
Внимательный к течению дней человек способен заметить, что неприятным сюрпризам в его жизни частенько предшествует удивительное спокойствие во всем, полное затишье. Я потихоньку приспосабливался, привыкал к рутинной своей секретарской работе у барона Жоржа Дантеса, и надо же было взорвать мою отупелую повседневность… ребенку. Да, именно ребенку это и было суждено. И посейчас, хотя прошли годы, помню все три его имени: Мари, Фредерик, Шарль. Именно этого мальчика я и видел тогда одетым в шотландский костюмчик в прихожей. Он был прехорошенький и совсем малыш — лет трех или четырех.
Так вот. Внезапно по всему особняку, снизу доверху, подобно грому прокатилась весть: Фредерик-Шарль заболел! Поначалу решили, что обычная простуда. Но вызванный сразу же домашний врач определил пневмонию.
Барон отменил все назначенные встречи. Десять раз на дню он поднимался на четвертый этаж, чтобы узнать, как себя чувствует маленький больной. Когда возвращался, расстроенный донельзя, смотреть на него было жалко. Однажды вечером, когда я уже собирался уходить, Дантес вдруг пожаловался, упав в кресло:
— Оба легких поражены… Ему становится все хуже и хуже… Лихорадка измучила бедняжку — весь горит… Признаться, я готовлюсь к худшему…
Отчаяние, которое ясно читалось на старом его измученном лице, заставляло сжаться сердце. Как бы ни твердо было ранее мое намерение уничтожить Дантеса, какие бы циничные планы я ни строил, сейчас ничто меня не сдерживало в сочувствии человеку, который страдает из-за болезни ребенка. Одна только мысль о том, что убийца Пушкина способен на добрые чувства, мешала моей к нему ненависти. Преступник, согласно моим взглядам, должен был быть скопищем недостатков. Только видя перед собой законченное чудовище, я мог укрепляться в своем решении. Однако чудовища живут лишь в воображении романтиков, а жизнь учит нас любить или ненавидеть