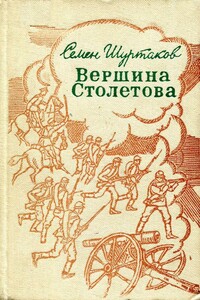Кто-то нам позвонил. У отца в кабинете параллельный аппарат, он послушает.
— Да, это Викентий Викентьевич.
Дверь в кабинете, должно, не затворена, слышно. Уж не Музыка ли «главное» хочет договорить? Нет, отец не зовет, значит, ему…
Ну, вот и все. Через каких-нибудь полчаса обед будет готов. Причешусь пока. А то утро — теперь уж какое утро, теперь уж, считай, полдня — прошло как-то в пустых хлопотах. Еще эта парикмахерская… А может, это хорошо, что косы-то я не оттяпала. Как там ни что, а они у меня красивые. И может, прав тот таежный медведь, может, они мне и в самом деле идут?..
— Витя! — У отца и голос глуховатым каким-то стал. Раньше звонче был. А может, на экзаменах устает… — У тебя там ничего не бежит, не горит, Витя?
— Нет, папа.
— Зайди ко мне.
Ну вот, а я только успела косу расплести. Но, видно, что-то нужное, если зовет.
В кабинете отец выглядит как-то крупнее и значительнее. Здесь, среди книг, он как-то уж очень на месте. Вот только вид у него усталый, утомленный, уж больно много сердца он в эти приемные экзамены вкладывает, больше самих экзаменующихся переживает…
— Как у вас с Вадимом, Виктор?
Уж не случилось ли чего — тревожное что-то в голосе.
— Ты о чем, папа?
— Ну как бы тебе сказать… Давно вы с ним виделись?
— Видимся каждый день. Разве что вчера… Договаривались встретиться вечером у Боба, но, ты знаешь, я к тетке насчет сапожок импортных проездила. А что, папа? Ты что-то недоговариваешь? Ну же, папа!
— Понимаешь, Виктория… Я уж и не знаю, как сказать, но сейчас… понимаешь, сейчас Нина Васильевна звонила… Одним словом, Вадим арестован.
— Не может быть! Тут какая-то ошибка, недоразумение!
— Мне бы тоже хотелось так думать, но… но они убили человека.
— Убили человека?! Что ты, папа?!
Убили человека??!!
Убили человека???!!!
ГЛАВА VIII
«ЧТО МНЕ ШУМИТ, ЧТО МНЕ ЗВЕНИТ…»
1
…Ясный звонкий день пролетья — не самой ли лучшей поры из всех времен года. Солнце уже вошло в полную силу, но еще не давит зноем. Все распустилось, расцвело, каждая травинка и каждый листик налились вешними соками. Все — молодо, зелено, весь заново родившийся мир блещет первозданной новизной и свежестью.
Вика — сколько ей тогда было? Года четыре, наверное, — Вика с красным, как знамя, сачком носится по дачному участку и, когда ей удается поймать бабочку, визжит от восторга. На ней голубенькие трусики и легкая белая панамка. И мелькают, мелькают в зеленой траве разноцветные пятна — голубое, белое, красное; неумолчно звенит, звенит тоненький ликующий голосок.
А день такой весь золотой, так пропитан солнечным светом, воздух так густо напоен медвяными запахами цветущих трав, что тебе хочется, чтобы день этот длился долго-долго, а может быть, и не кончался никогда. Потому что такие дни как бы возвращают и нас, взрослых людей, в счастливое детство. Если же человеку еще неведомо понятие возраста, если ему всего-то каких-нибудь четыре года — ощущение полного счастья не покидает его с утра и до самого вечера.
И вот в самый разгар этого праздничного солнечного дня с зеленой лужайки вдруг раздался пронзительный вскрик. А когда он подбежал к дочке, та неловко полусидела на траве и голосом, в котором были боль и испуг, звала:
— Папа, папа, больно ножку…
Правая нога ее около пятки была залита кровью, рядом в траве блестел осколок стекла.
Он подхватил ее на руки и понес в дом. На всю жизнь, наверное, запомнились глаза, полные слез и горестного недоумения: зачем это такая боль в такой ясный, в такой хороший день?!
Рану смазали йодом, перевязали, и, когда боль немного поутихла, дочка спросила с тревогой и горькой печалью:
— А мне теперь совсем нельзя будет бегать?
— Ну что ты, еще как побежишь-то, — успокоил он ее, но так и не понял, поверила она ему или нет.
И как ему тогда хотелось, чтобы на эту склянку наступила не нога дочки, а его нога, и пусть бы рана была намного больше и боль намного сильнее — он же взрослый, он уже знает, что такое боль, и ему легче ее перенести. Он испытал бы только боль, а не такое вот потрясение…
Человек рождается для радости, а не для горя. Потому, наверное, самые первые — пусть и не такие великие — горести не только опечаливают, но и ошеломляют его: зачем? Сердце его открыто настежь добру и пока еще ничем не защищено, и если человек натыкается в жизни на что-то злое, недоброе, он натыкается своим открытым сердцем.

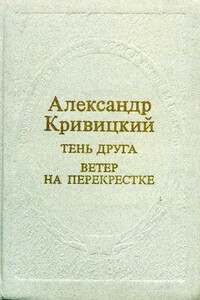


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)