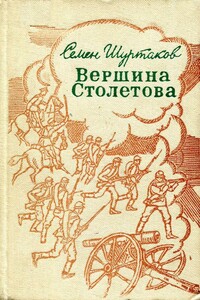Ты в таком долгу перед отцами,
Третье поколение страны…
Вот именно: в таком долгу!
Если бы у меня был отец!.. Как-то давно, еще в детстве, шли с матерью из леса хлебными полями и она мне про отца рассказывала. И так живо она о нем говорила, и так захотелось мне видеть его, что на какую-то минуту мне показалось, что он идет той же тропой через хлеба, идет где-то рядом, может быть, за нами, и я слышу его тихие шелестящие шаги. Я зачем-то затаил дыхание и разом быстро оглянулся. Тропа была пуста, только ржаные колосья с тихим шелестом клонились на нее с той и другой стороны. И так мне горько стало, что я не мог сдержаться, заплакал.
Если бы у меня был отец!
Не могу понять, что происходит с некоторыми моими сверстниками. Отец сказал сыну: ну, брюки ты расклешил на полметра — ладно, а надо ли и звоночки-то к ним привешивать? А мать дочке: тебе же еще восемнадцати нет, а ты волосы под седину красишь и глаза подводишь — зачем? И сын с дочкой начинают иронически поглядывать на своих родителей: ах, какие несовременные, ах, какие отсталые!.. И я еще ни разу в газете или журнале не прочитал, чтобы кто-нибудь из нас, молодых, веско сказал своим ровесникам: что вы делаете, разве так можно с нашими отцами и матерями?! А вот статеек о том, как в семье старшие «не поняли» устремлений модного мальчика, а в школе недалекие учителя «не поняли» крашеную девочку, — таких статеек хоть отбавляй…
Жека, конечно, дрянь парень, что и говорить, но только ли он сам в этом виноват — вот в чем вопрос…
Дементий встал с кресла, подошел к перилам.
Как только солнце упало за леса, берега сразу потемнели и все цвета перемешались. А вода все еще сияет нежной такой голубизной. Особенно там, впереди, куда судно держит путь. Берега еще пододвинулись, море как бы сузилось до большой полноводной реки.
Раньше клятвы давали. Герцен с Огаревым на Воробьевых горах, перед лицом Москвы поклялись. И как прекрасно это было. У нас же — какие уж там клятвы! — становится хорошим тоном иронизировать даже над самым святым…
Нет, я никогда не назову отца словом, вызывающим ухмылку. Я обещаю тебе, отец — вот тоже побоялся сказать клянусь, — всегда помнить о тебе и во всем, что бы я ни делал, быть достойным твоей памяти…
ГЛАВА IV
КУДА СПЕШИТ ЧЕЛОВЕК?..
1
И вот он опять на плотине гидростанции. Опять его объемлет со всех сторон разноголосый гул стройки. Опять с одной стороны перед ним — река, разлившаяся морем, с другой — та же река, прорвавшаяся через тело плотины и с яростным кипением низвергающаяся в нижний бьеф: там постоянно висит плотное облако водяной пыли.
На самой плотине теперь относительно тихо и малолюдно. Работы переместились в ее бетонное чрево: там заканчивается сборка последних турбин, идет установка оборудования в здании гидростанции.
Трудно сосчитать, сколько раз за день поднялся и спустился Николай Сергеевич по железным трапам, до блеска отполированным тысячами сапог. Многое хотелось увидеть, на многое хотелось поглядеть и вблизи, где хорошо виден и человек и то, что он делает, и издали, когда каждый человек и его дело как бы соотнесены с общей картиной.
День пролетел незаметно.
А вечером, гуляя по городу, он опять оказался на Пурсее.
Среди надписей, которыми была испещрена каменная макушка Пурсея, даже в полусумраке выделялась одна: «Мы тебя покорим, Ангара!» Такое же сейчас пишется на откосах Дивных гор: «Покорись, Енисей!» Наверное, зря это мы так-то. Одно дело, когда в тридцатые годы пели: «Мы покоряем пространство и время»; другое, когда, входя во вкус, начали говорить о покорении природы. И пространство, и время — философские абстракции, природа же — нечто живое. А главное — не враждебное человеку, зачем ее покорять? Покоряют врага, недруга… «Работай на нас, Енисей!» — куда бы лучше…
В стороне, на каменном выступе, сидела парочка. Николай Сергеевич, наверно, не обратил бы внимания на них — не такая уж это невидаль здесь, на Пурсее, если бы не услышал приглушенные всхлипывания.
— …не отпускала… против ее воли я, — сквозь рыдания донеслось до Николая Сергеевича.
Парень низким глухим голосом сказал что-то утешающее…

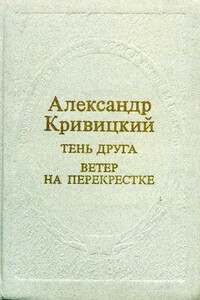


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)