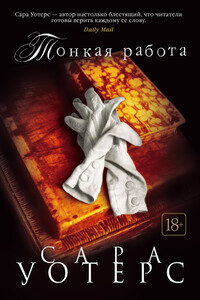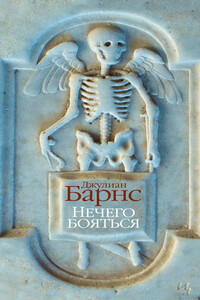Помню, в какой-то момент разговор коснулся закрытия «Рейнольдс ньюс». На долю этой газеты (полное название – «Рейнольдс ньюс энд санди ситизен») выпали тяжелые времена, ее сократили до воскресного таблоида, а потом и вовсе закрыли – видимо, незадолго до той беседы.
– Мне кажется, это погоды не делает, – сказал я.
Я и в самом деле не усматривал здесь ничего из ряда вон выходящего. Возможно, пару раз мне и попадалась на глаза эта «Рейнольдс ньюс», но от меня не укрылась глубокая озабоченность в голосе Мориса.
– Вы так считаете? – светским тоном переспросил он.
– По большому счету, да.
– А как же плюрализм средств массовой информации? Разве его не следует ценить?
– По мне, все газеты примерно одинаковы; одной больше, одной меньше – невелика разница.
– А вы, часом, не из «новых левых»?
Я посмеялся. Не над его словами, а над ним самим. Что он хочет на меня навесить, мать его так? Кем хочет меня выставить? А сам, между прочим, копия членов правления теннисного клуба у нас в Деревне.
– Нет, политику я презираю, – ответил я.
– Вы презираете политику? Не кажется ли вам, что это не совсем здравое отношение? Вам удобно прикрываться цинизмом? А чем, по-вашему, можно заменить политику? Прихлопнуть газеты – и прихлопнуть всю нашу политическую деятельность? Прихлопнуть демократию? Мне видится здесь позиция левака-революционера.
Этот тип начал меня не на шутку раздражать. Я оказался не то чтобы вне сферы своей компетентности, но вне сферы своих интересов.
– Прошу прощения, – сказал я. – Это совсем не так. Но дело, видите ли, в том, – добавил я, глядя на него с удручающей серьезностью, – что я принадлежу к отработанному поколению. Вам может показаться, что мы для этого слишком молоды, но тем не менее: мы – отработанный материал.
Вскоре после этого он ушел.
– Ох, Кейси-Пол, какой ты вредный.
– Я?
– Ты, кто же еще? Он ведь упомянул, что работал в «Рейнольдс ньюс», – разве ты не обратил внимания?
– Нет, я подумал – он шпион.
– Чтоский? Русский?
– Да нет, я считаю, его к нам заслали, чтобы разнюхать, что к чему, а потом написать отчет.
– Не исключено.
– Думаешь, нам стоит беспокоиться?
– В ближайшие два-три дня – наверное, нет.
* * *
Созревает решение: поскольку ты студент, а все твои друзья-приятели, кроме тех, что живут с родителями, платят за жилье, то и тебе нужно последовать их примеру. Спрашиваешь у одного, у другого, сколько с них берут. Выбираешь среднее: четыре фунта в неделю. Вполне приемлемо. Кто получает государственную стипендию, тот может себе это позволить.
В понедельник вечером вручаешь Сьюзен четыре десятки.
– Это что? – спрашивает она.
– Я решил, что должен платить тебе за квартиру, – отвечаешь ей с излишней, наверное, чопорностью. – Примерно такую сумму платят все.
Бумажки летят в тебя. Не совсем в лицо, как показали бы в кино. Они рассыпались по полу. Весь вечер нагнетается молчание, и на ночь глядя ты устраиваешься на диване. Переживаешь, что не проявил деликатности в вопросе квартплаты – почти как в том случае, когда подарил ей пастернак. Всю ночь зеленые банкноты так и валяются на полу. Наутро ты возвращаешь их в бумажник. Эта тема больше не муссируется.
* * *
После визита Марты произошли два события. Комнаты в мансарде были сданы жильцам, а Сьюзен впервые после нашего бегства съездила в Деревню. Сказала, что необходимо и целесообразно время от времени туда наведываться. Как-никак, половина дома принадлежит ей, а она далеко не уверена, что Маклауд будет оплачивать счета и следить за состоянием бойлера (я не понял: почему, собственно? Ладно, не важно). Миссис Дайер, которая по-прежнему ежедневно приходила убирать и поворовывать, обещала держать хозяйку в курсе всех дел, требовавших ее внимания. Сьюзен поклялась, что будет появляться дома только в отсутствие Маклауда. Я ее отпустил, хотя и со скрипом.
* * *
Недавно я сказал: «Вот в таком виде я хотел бы сохранить в памяти минувшие события, будь это в моей власти. Но нет». Кое-что я опустил, но некоторые эпизоды больше откладывать невозможно. С чего же начать? С «читальни», как называлась у Маклаудов одна из комнат на нижнем этаже. Час был поздний, но мне совершенно не хотелось идти домой. Сьюзен, по всей видимости, уже легла спать – точно не помню. Не помню даже, какую книгу я там читал. Определенно взятую с полки наугад. Я так и не сориентировался в этой подборке книг. Там были хранимые двумя, а то и тремя поколениями старинные собрания сочинений в кожаных переплетах, а также альбомы по искусству, сборники поэзии, большое количество исторической литературы, кое-какие биографические произведения, романы, детективы. У нас, в родительском доме, книги, словно в доказательство того факта, что к ним относятся с уважением, были расставлены в строгом порядке: по тематике, по авторам, даже по размеру. А здесь царила иная система, точнее, насколько я мог судить, бессистемность. Геродот соседствовал с комическими стишками Салливана, трехтомная история Крестовых походов – с Джейн Остин, а Лоуренс Аравийский втиснулся между Хемингуэем и практическим пособием по бодибилдингу. Что это было – тонкая шутка? Богемная небрежность? Или особый род заявления: в доме главные – не книги, а мы сами.