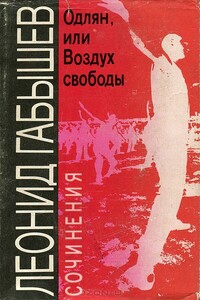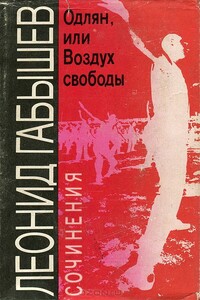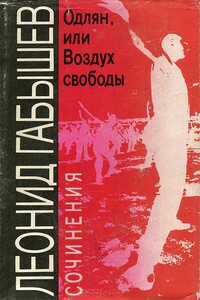Алмаз сработал чисто, по-боксерски: с ходу два удара в лицо. Рассек Глазу бровь. Он и еще бы ударил, но, увидев кровь, отошел.
Пацаны с криками соскочили со шконок и подбежали к Глазу. Они были уверены: он будет сопротивляться или выкинет что-нибудь такое, от чего Алмаз к нему не подступится. Но все обошлось. Глаз побит. Кто-то оторвал от газеты маленький клочок и приклеил Глазу на бровь. Кто-то обтер с лица кровь, чтоб, когда поведут, не было видно, что его побили.
— Не заложишь нас? — спросил Чока.
— Совсем охерели? — Глаз оглядел пацанов.
— А кто тебя знает… — Чока помолчал. — Надо спрятать стиры.
Пацаны перепрятали карты.
— Тогда и мойку перепрячьте. Я ведь знаю, где она лежит.
Парни переглянулись, но лезвие перепрятывать не стали.
— Вы что, правда поверили, что я наседка?
Ему никто не ответил. В коридоре забренчали ключами.
— Петров, на выход!
На пороге стоял корпусный. Глаз взял под мышку матрац, а пацаны, пока он стоял спиной к корпусному, прилепили ему на бровь другой клочок бумажки. Первый промок от крови.
— Глаз, пока! Глаз, просись еще к нам! — заорали пацаны.
У порога Глаз обернулся к ребятам и махнул рукой:
— Аля-улю.
И Глаза закрыли в старую камеру.
У Глаза настроение — дрянь. Приняли за наседку. Кто, кто первый пустил эту парашу? Сейчас он боялся, вдруг малолетки придут на работу и закричат в окно: «Берегитесь Глаза, он — наседка!»
Через несколько дней малолеток вывели на работу. Через окно они поздоровались с Глазом, а кричать ничего не кричали. Это подняло настроение, и вечером он устроил концерт. От старого резинового сапога отрезал часть голенища, обернул ложку резиной, вывернул лампочку дневного света и сунул в патрон конец ложки. И стал крутить. Из патрона посыпались искры, и где-то перегорел предохранитель. Свет потух вдоль запретки, в коридоре и в соседних камерах. Слышно было, как дежурный в коридоре кричал в телефонную трубку, вызывая электриков.
Электрощитовая на улице, и вся камера слышала, как пришли электрики-зеки и, матерясь, заменили предохранитель.
Не прошло и часа — Глаз номер повторил. Снова крик дежурного в телефон и мат электриков на улице.
Через несколько дней Глаза и двух взросляков перевели в камеру в основной корпус, в полуподвальный этаж, где сидели смертники, особняки и на дураков косящие. Это была та самая камера, из которой малолетки вырвались.
— Эх и буду я здесь чудить, — сказал Глаз, когда они зашли в свободную камеру. — Они замучаются менять предохранители.
Не успели расстелить матрацы, как в камеру посадили еще троих взросляков. Теперь все места заняты.
Познакомившись, зеки стали интересоваться, у кого какие сроки и кто откуда. Может, земляк найдется. Оказалось, самый маленький срок — пять лет — у парня по имени Вадим, а самый большой — пятнадцать — у мужчины лет тридцати пяти. Был он с севера Тюменской области и попал за убийство. Застрелил из ружья сожительницу, застав в постели с мужчиной. Несмотря на то, что у Богдана самый большой срок, он — самый веселый.
Два дня Глаз потешные искры из патрона не высекал: разговоры уж больно интересные — о женщинах.
Богдан дал Глазу длинное стихотворение под названием «Туфельный след», и он, лежа на шконке, учил его. Когда доходил до строфы:
И с крепкими чувствами
Мы друг к другу прижались,
И юбка слабела на ней,
Юбка слабела, трико опустилось,
Теряли сознанье мы с ней,—
падал на шконку и закрывал глаза. Глаз представлял, как он, а не кто-то в стихах идет по парку, и не с какой-то красивой дамой, а с Верой. Вера веселая, он рассказывает ей забавные истории. И заходят они в заброшенный дом. Он обнимает Веру и пытается раздеть, шепча: «Вера, Верочка, я тебя люблю. Я столько лет мечтал об этом часе». Глаз в воображении сумел раздеть любимую до платья, а к платью прикоснуться не смог. Он никогда не раздевал женщин. Он делает усилие, но тщетно. Богатое воображение дальше платья не движется.
Глаз снова читает «Туфельный след» и вновь, дойдя до этой строфы, зарывается лицом в подушку и представляет, как они с Верой идут по аллее. Заходят в дом. Начинает ее раздевать. Но к платью опять прикоснуться не может. Нет, вот он прижал Веру к себе, нагнулся, берется за низ платья, но ему становится стыдно, и он падает перед ней на колени: «Верочка, я люблю тебя».