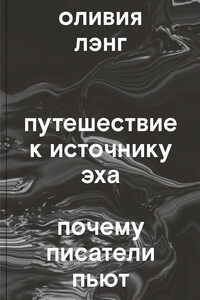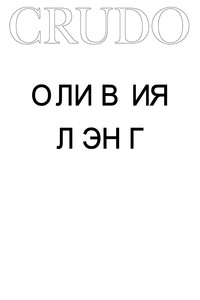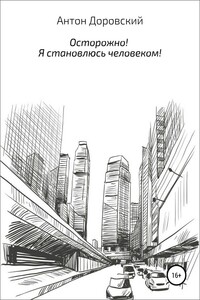1) распада на части;
2) вечного падения;
3) полной отдельности, поскольку нет методов общения;
4) разобщение психики и сомы.
Этот список — послание из самой сердцевины одиночества, из его тронного зала. Распад на части, вечное падение, невозвратимость жизненной силы, замкнутость навеки в одиночном узилище, где чувство действительности, границ стремительно размывается, — всё это следствия разлуки, ее горькие плоды.
Дитя в таких обстоятельствах заброшенности желает, чтобы его взяли на руки, обняли, утешили ритмами дыхания, биения сердца, приняли в добром зеркале улыбчивого материнского лица. В ребенке постарше или во взрослом человеке, которого недостаточно пестовали или которого утратой отбросило назад в детский опыт разлуки, эти чувства зачастую порождают нужду в переносе, в катектических, любимых вещах, что могут помочь самости собраться и восстановить единство.
Интереснее всего в изложении случая маленького мальчика, одержимого бечевкой, у Винникотта, хоть он и настаивает, что подобное поведение — не ненормально, вот что: психоаналитик не упускает из вида опасностей, связанных с таким поведением. По его мнению, если связь не восстановлена, человек способен впасть из горя в отчаяние, и в этом случае игра с предметом может стать «извращенной», как он это называет. В подобном неблагоприятном состоянии назначение бечевки изменится и превратится «в отрицание разлуки. Как отрицание разлуки бечевка становится вещью в себе, чем-то, у чего опасные свойства и чем совершенно необходимо повелевать».
Когда я впервые прочла это утверждение, тут же вспомнила громадную плетеную корзину в комнате Генри Дарджера, которую посетила в Чикаго. Она была набита найденными мотками и обрывками бечевки, которые он собирал по канавам и помойкам по всему городу. Дома он по многу часов распутывал их, распрямлял, после чего связывал между собой. Судя по его дневнику, это занятие было для него глубоко прочувствованным: он мало что записывал помимо посещений церковной службы — и путаницы и трудностей с веревками и бурым шпагатом.
29 марта 1968 года: «Истерики из-за путаницы и узелков, затянутых на шпагате. Грозился швырнуть клубком в святой образ из-за этой трудности». 1 апреля 1968 года: «Путаница в шпагате, трудно. Несколько лютых истерик и скверных слов». 14 апреля 1968 года: «С 2 до 6 вечера распутал белый шпагат, смотал в клубок. Истерики, потому что иногда связанные два конца шпагата не держатся вместе». 16 апреля 1968 года: «Опять беда со шпагатом. Взбесился, жалел, что я не злой смерч. Сквернословил на Бога». 18 апреля 1968 года: «Куча шпагата и веревки. Узлы в этот раз не тугие. Пел песни вместо истерик и сквернословия».
Есть в этих записях такой эмоциональный накал, такие глубинные взрывы гнева и огорчения, что возникает прямо-таки плотское ощущение, каково это — обращаться с веревкой как с опасным материалом: воспринимать ее как то, что необходимо усмирять, на что можно стравить тревоги помасштабнее, что, если обращаться неправильно, может спустить с цепи непреодолимые горе или гнев.
Однако, по Винникотту, такого рода деятельность может быть не только отрицанием разлуки или вытеснением чувства. Переходные объекты, подобные бечевке, можно применять и чтобы признать нанесенный ущерб, исцелить раны, стянуть самость воедино, чтобы удалось восстановить связь. Искусство, считал Винникотт, — пространство, где можно проделать такого рода труд, где можно свободно двигаться между соединением и распадом, творить работу латания, работу скорби, готовить себя к опасному чарующему делу близости.
* * *
Вроде странно полагать, будто исцеление или примирение с одиночеством и утратой — или с ущербом, понесенном в близости, неизбежными ранами, что возникают, когда бы люди ни сплетались друг с другом, — может осуществляться посредством предметов. Странно, да, и все же чем больше я думала об этом, тем яснее мне это виделось. Люди творят вещи — создают искусство или предметы, подобные искусству, — как выражение своей нужды в связи или страха ее; люди творят вещи, чтобы разобраться со стыдом, со скорбью. Люди творят вещи, чтобы обнажиться, чтобы оглядеть свои рубцы; люди творят вещи, чтобы противостоять подавлению, чтобы создать пространство, где они вольны двигаться. Искусство не обязано выполнять задачи восстановления — как не обязано быть красивым или нравственным. И все равно есть искусство, намекающее на восстановление, и такое искусство, как сшитый хлеб Войнаровича, преодолевает хрупкое пространство между разлукой и связью.