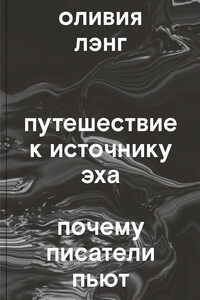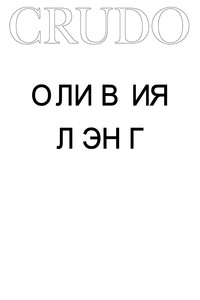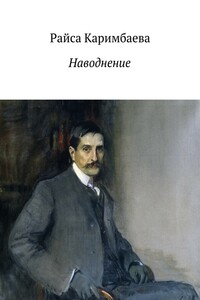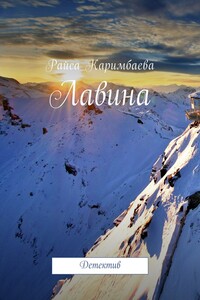Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - страница 95
Их мольба выдерживает даже перенос на экран компьютера. Глядя на них в формате jpg — штопаный апельсин, банан, нелепо обмотанный ниткой, — трудно не ощутить, как что-то тянет внутри, откликаясь и на ущербность, и на несообразный, заботливый, упрямый труд надежды починить то, что произошло с этими фруктами, стежок за стежком, молния за пуговицей.
Я — не единственная, кого зацепили эти фрукты. В статье для Frieze о работе Зои Леонард критик Дженни Соркин[156] описывает, как увидела эту инсталляцию впервые, раздраженно бродя по Филадельфийскому музею искусств где-то в начале тысячелетия. «Издали, — пишет она, — смотрится как свалка. Но затем я приблизилась и перестала раздражаться — наоборот, загрустила и ощутила себя внезапно очень одинокой, отчаяние накатило бульдозером. Сшитые фрукты абсурдно, неизъяснимо сокровенны».
Утрата — двоюродная сестра одиночества. Они пересекаются и перекрываются, и потому неудивительно, что труд скорби пробуждает чувство одиночества, разлуки. Смерть — дело одинокое. Физическое существование одиноко по сути своей: застрять в теле, что неумолимо движется к распаду, сжатию, растрате, поломке. Есть и одиночество горя, одиночество утраченной или оскверненной любви, тоски по одному или нескольким особым людям, одиночество оплакивания.
Все это, впрочем, можно выразить посредством мертвых плодов, сухой кожурой на галерейном полу. «Чудные плоды» трогают столь глубоко, столь болезненны именно благодаря труду сшивания: он выявляет еще одну сторону одиночества — его беспредельную мучительную надежду. Одиночество — желание близости, воссоединения, присоединения, собрания того, что иначе разобщено, заброшено, сломано или отдельно. Одиночество — тоска по единству, по чувству цельности.
Занятное это дело — сшивать вещи в одно целое, связывать их ниткой или бечевкой. Не только практический, но и символический труд и рук, и души. Одно из самых вдумчивых описаний смыслов, содержащихся в подобных занятиях, предложил психоаналитик и педиатр Д. В. Винникотт[157], продолжатель работ Мелани Кляйн. Винникотт начал свою психоаналитическую деятельность, работая с эвакуированными детьми во время Второй мировой войны. Всю свою жизнь он посвятил изучению привязанности и разлуки, развил представления о переходном объекте, поддерживающей среде, ложном и истинном «я» и как они развиваются в угрожающих или безопасных условиях.
В книге «Игра и реальность» он описывает случай маленького мальчика, чья мать неоднократно оставляла его и уезжала в больницу — сперва рожать дочку, а затем лечиться от депрессии. В результате этих переживаний мальчик сделался одержим бечевкой: стал связывать вместе мебель в доме, приматывать стулья к столам, пришнуровывать подушки к камину. Однажды он, ко всеобщей тревоге, повязал бечевку на шею своей новорожденной сестренке.
Винникотт не счел это поведение случайным, шаловливым или безумным, как того опасались родители, а усмотрел в нем заявку, своего рода сообщение чего-то недопустимого в языке. Он подумал, что мальчик пытается выразить и ужас разлуки, и желание восстановить связь, которая, как он это ощущал, под угрозой или утрачена вовсе. «Бечевку, — писал Винникотт, — можно рассматривать как расширение всех прочих методов общения. Бечевка стягивает воедино, а также помогает обхватывать и удерживать вместе разрозненные предметы. В этом отношении бечевка имеет символическое значение для кого угодно… — и добавлял предупреждение: — …Чрезмерное применение бечевки может вполне означать зарождение чувства неуверенности или мысль о недостатке общения».
Страх разлуки — главная тема работ Винникотта. Это преимущественно младенческое переживание, ужас, что живет и в детях постарше, и во взрослых, — и он возвращается против нашей воли в обстоятельствах, когда мы уязвимы или одиноки. В предельном случае это состояние дает начало катастрофическим чувствам, которые Винникотт называл «плодами привации», в том числе: