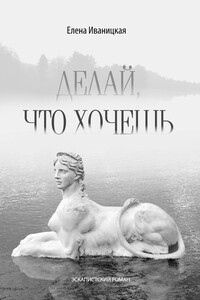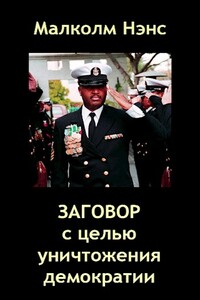Детство гениально: оно хочет докопаться
и дойти до самых краев земли.
Виктор Шкловский
Спрашивает мальчик – почему?
…А папаша режет ветчину
И не отвечает ничего.
Александр Галич
Советские дети не задавали родителям и учителям вопросов. Вообще никаких, тем более о политике, о партии, о вождях, о прошлом семьи, о смерти, о любви. Дети рано усваивали, что всякий несанкционированный вопрос уличает вопрошателя: либо он не знает положенного, либо хочет узнать неположенное.
Эту реальность камуфлировала фикция, будто дети – неутомимые почемучки, а прекрасный мир щедро отзывается на их желание дойти и докопаться. Простодушную любознательность, наивную пытливость детей старшие пресекали с самого раннего возраста самыми разными мерами. Даже побоями, о чем рассказала Инесса Ким в своих беспощадных воспоминаниях «Кривые небеса». Но это тяжкая крайность, а типичные семейные практики были сдержаннее: от гнева до насмешки. В любом случае ответа на свой вопрос ребенок не получал и скоро догадывался, что спрашивать бесполезно, а главное – опасно. Маленькие дети не сразу понимали, за какие именно вопросы мама с папой их «отругают», но постепенно усваивали набор сакральных слов, которые нельзя произносить по своей воле. Так же строго, как сферу политики, взрослые репрессировали сферу пола. Сакральное оказывалось рядом с непристойным, и воспринималось как непристойное. Дети усваивали запрет не столько разумом, сколько чувством: испугом, трепетом, смущением, неловкостью. Запоминание было особенно крепким, когда дети замечали страх родителей.
§1. Взаимная неоткровенность в семье и вступление в пионеры
Типичная – и трагичная – ситуация советской семьи: родители не знали, как на самом деле их дети пытаются обдумать «мир, в котором они живут», а дети не знали, что на самом деле думают их родители. Это взаимное незнание обозначалось словами оберегать, ограждать, спасать.
Михаил Герман в книге воспоминаний «Сложное прошедшее» (СПб.: Искусство – СПб, 2000) рассказывает о ситуации поздне-сталинских времен: «Тогда сознание было вполне рабским, скорее убого-запрограммированным. Мама, давно и все понимавшая и знавшая, старательно оберегала меня от своего опасного знания» (с. 168).
О том же времени то же самое вспоминает Борис Фирсов: «Взрослые ограждали, вернее сказать, спасали нас от преждевременного разочарования жизнью, внутри которой мы нераздельно существовали. Они не открывали нам глаза на несправедливость реального жизнеустройства страны победившего социализма. <…> Говоря иначе, семья и школа были инкубаторами, где цыплят не пугали мерзостями жизни, с которыми им придется столкнуться. Этот щадящий гуманизм должен быть по достоинству оценен. Вследствие этого моя мама не обсуждала со мной политические проблемы. На судьбе репрессированного отца лежало жесткое „табу“» (Борис Фирсов. Разномыслие в СССР: 1940—1960-е годы. – СПб.: Европейский дом, 2008, с. 222—223).