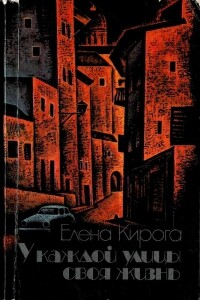— Спасибо, я согласна, — быстро ответила Анна.
По утрам она выходила из дому в обычное время и шла на соседнюю улицу. У нее был свой ключ. Ей нравилась утлость постройки: в погожие дни достаточно было открыть дверь, чтобы оказаться в прямоугольнике яркой, синей прохлады; в ветреные дни стены то и дело вздрагивали, а флаконы и баночки начинали выводить свою позвякивающую стеклянно-металлическую мелодию; в дождливые дни — это была ее любимая погода — капли так звучно барабанили по жестяной крыше, что ей казалось, будто она становилась частью промокшего неба, отделенного лишь тончайшей мембраной. Фургон, чихая, подъезжал сквозь туман к восьми утра; потом у нее оставалось четверть часа свободы, и она позволяла себе роскошь подушиться из того или иного флакончика, извлеченного из-под прилавка. Ровно в девять она поднимала оконную решетку, после чего уже была занята без передышки, но ее это не тяготило. Всю свою жизнь она провела по другую сторону прилавка, и ей нравилось иметь под рукой то, за чем остальные готовы были стоять в очереди.
После обеда она уступала место Любе и спешила к билетному киоску, мысленно готовясь к тревожным проводам еще одного дня. В очереди не осталось и следа от летней безмятежности: она сменилась беспокойной чехардой, люди приходили и уходили, повинуясь непредсказуемым графикам, исчезая по сомнительным делам, возвращаясь с подслушанными в городе вестями, все более зловещими. Беседы велись приглушенно: теперь на улице дежурила военизированная охрана — для безопасности самих же очередников, как им было сказано, хотя «соловьи» после известных событий не возвращались, а виновные были задержаны. Неделю-другую вохровцы не заговаривали с очередью, а просто фланировали туда-сюда по тротуару, приостанавливаясь, когда в очереди намечалось излишнее возбуждение; но однажды вечером, в начале ноября, Анне пришлось оторваться от томика стихов при звуках незнакомого голоса, рявкнувшего: «Всем предъявить документы, живо!»
К ним широким шагом направлялся какой-то человек в форме — лица было не разглядеть, но рука в кожаной перчатке махала списком. В очереди началось нервное шевеление; робкие голоса, тусклые, как дым, спрашивали: «Что он сказал?», «Как, простите?», «Вы слышали?».
— Документы, — повторил человек в форме. — Во избежание недоразумений проверка будет производиться в каждую смену. Просьба соблюдать порядок. Граждане, не имеющие при себе удостоверений личности, будут выдворяться.
— Но у нас по-другому заведено, — слабо возразили из очереди. — Есть ответственный товарищ, понимаете, организатор типа, со списками…
— Указанный товарищ больше здесь появляться не будет, — бесстрастно сообщило должностное лицо. — Документы попрошу.
Наступила глубокая тишина, продолжавшаяся всего один миг; потом ее поглотило шуршанье сумочек и поспешно выворачиваемых карманов. Растерянного старичка, оказавшегося без документов, вытолкали из очереди; он, не оглядываясь, поковылял по темной улице. Женщина, стоявшая за Анной, годами помоложе, с которой они изредка обменивались впечатлениями о погоде, беззвучно заплакала, даже не пытаясь вытирать лицо; Анна протянула ей носовой платок. Позднее, когда представитель власти удалился в сгустившиеся сумерки, черкнув что-то на полях списка, очередь стала полниться слухами. Кто-то сказал, что незадачливого организатора забрали, как и оборотистого товарища, дававшего напрокат стулья, как и Владимира Семеновича, того самого, с усами, он, похоже, крестик носил, ну, вы знаете, о ком речь идет; но древняя старуха, которая, по ее словам, жила с организатором в одном доме, только на первом этаже, прошамкала кое-что дребезжащим шепотом на ухо соседке, и к концу смены всем стало известно, что никто его, оказывается, не забирал, а что подстерегли его как-то ночью, после смены, то ли «соловьи», то ли недовольные его методами очередники, кто их знает, и жестоко избили прямо у подъезда, под прикрытием кустов сирени, да так, что бродячие собаки на соседних улицах завыли.
— Возьмите, — сказала женщина за спиной Анны, возвращая ей платок. — Спасибо вам.