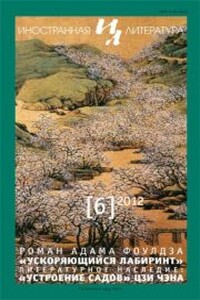Из коробочки выдвинулось внутреннее отделение.
Там лежали спички. Толстые белые спички с добротными серными головками красного и желтого цветов.
Сергей неотрывно смотрел на эти спички, пока пальцы не обожгло морозом, и тут у него вырвался короткий и резкий лающий хохот; он запустил иностранный коробок в темноту, и темнота будто отвердела, направляясь в его сторону текучим, подвижным сгустком. Его охватил безотчетный, но нешуточный страх; однако приглядевшись, он понял, что это всего лишь старик в нелепом бесформенном балахоне, как у согбенных отшельников из тех книжек с картинками, какие он в детстве находил под сверкающей елкой.
Отряхнув колени от снега, старик шагнул в круг света.
— Спички с неба упали, вот свезло, так свезло, — заулыбался он. — Теперь бы еще папироской разжиться. А ты сам некурящий?
Сергей мотнул головой и двинулся дальше.
— Оно и видно — иначе не стал бы хорошими спичками разбрасываться, — забормотал старик себе под нос. — Ну-ка, что тут такое, надпись, что ли, — не разберу, глаза совсем сдали… «И-горь Се-лин-ский», ага, так и есть, Игорь Селинский…
Одним прыжком Сергей рванулся назад и, выхватив у старика спичечный коробок, подставил его под скудный свет фонаря, от волнения забывая дышать: да, верно, как же он проглядел: на верхней стороне — золотая надпечатка «Café Apollo», а на нижней — нацарапанная торопливо, от руки, едва различимая надпись через весь глянец: «Игорь Селинский». Он засмеялся и чуть было не сжал старика в объятиях, но вместо этого воскликнул: «Оставьте себе, оставьте себе!», сунул коробок в стариковские руки, шершавые и узловатые, словно кора векового дуба, и припустил по улицам, а затем вверх по лестнице, мурлыча — нет, распевая, торжествующе распевая — мелодию, победно вспыхнувшую у него в голове, мелодию, разученную им в десятилетнем возрасте, мелодию, призванную, как он некогда считал, перевернуть всю его жизнь: обманчиво простой мотив, незатейливый и в то же время трогательный, один из ранних опусов Селинского, таивший в себе надежду, пленительную надежду на лучшее, которая была совсем близка, да рухнула — и для него, и для других, и для всего этого темного, холодного края, застывшего под зимним гнетом, — но, видимо, брезжила где-то в других краях, да, наверняка брезжила там, где много света, блеска и музыки, где жизнь — как искусство, где искусство — как жизнь; а вскоре забрезжит и для него, и для других, и для этого края, потому что времена меняются и в жизни тоже наметились желанные перемены.
Уняв дрожь в руках, он сумел наконец вставить ключ в замочную скважину, отворить дверь и ступить через порог, а там его ослепила вспышка ожившего света и встретила жена, поднявшаяся из-за кухонного стола.
— Что это ты распевал? — спросила она странно дрогнувшим голосом.
— Аня, ты не поверишь, что со мной…
— Ой, да ты весь в снегу! — воскликнула она, бросилась к нему и захлопотала, стаскивая с него отсыревшее пальто. — Пешком шел? Далеко? Ноги, небось, промочил… Давай-ка на плечики повесим, вот так… Не простыл? Тебе чаю надо выпить, сейчас заварю, ты садись, не стой…
Его взгляд упал на полную раковину посуды с присохшими бурыми комьями, на корзину с шерстяными чулками, приготовленными для штопки, на широкую спину жены, склоненную над чайником.
Прикусив язык, он опустился на стул и начал дергать заледеневшие шнурки.
— Ну вот, — сказала жена, — горяченький, с лимоном… Так что ты там распевал?
— На днях по радио услышал, — коротко ответил он.
Допив чай, он сразу вышел из-за стола и в предрассветной серости спальни провалился в поющий, сверкающий колодец, населенный еле слышными мелодиями, которые он силился разобрать сквозь шум воды, и атласными женщинами, наигрывающими веселые песенки серебряными ложками на зрелых виноградинах, а когда утро уже перевалило за середину и на улице разлился молочный свет, откуда ни возьмись появился старик с клочковатой бородой и впалыми черными глазами: он стоял под фонарем у заколоченного киоска и хитро улыбался.
4
На первые две недели января выпадали каникулы. Для Александра это не играло никакой роли. Он, по обыкновению, выходил из дому спозаранку и, по обыкновению, шел куда угодно, только не в школу. Вторая пятница наступившего года застала его на скамье в парке неподалеку от дома: он наблюдал за голубями, которые рылись в мусоре возле переполненной урны. Голубей он не особо любил, а если совсем честно, то просто терпеть не мог: такие надутые, гладкие, такие самодовольные, важные, а на ощупь — ему ли не знать — костлявые, мелкие, дрожащие, не птицы, а мыши в перьях. Но все равно, сидя на холоде, в безлюдном сквере, и наблюдая за этими пернатыми, он благополучно коротал время.