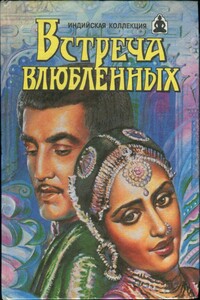– Осенью я поеду на педагогические курсы. Сначала мама хотела ехать со мной, но потом раздумала.
Я понимаю, почему раздумала: она потеряла надежду жить с сыном.
– Вы, конечно, Женюша, поселитесь у нас?
– О, мне бы очень хотелось! Но Катя находит, что мне лучше жить одной.
Я окликаю Катю и прямо спрашиваю, что она имеет против того, чтобы Женя поселилась у нас зимой.
– Хотя бы потому, – отвечает Катя, – что у вас, наверное, очень шумно.
– У нас? – удивляюсь я. – Да у нас мертвый покой! Пока светло, я работаю в мастерской, а вечером занимаюсь скульптурой, рисую, читаю. Разве Илья мог бы работать при шуме? Изредка мы ходим в театр, в концерт. Гости у нас бывают очень редко.
– Женя может привыкнуть у вас к роскоши.
– Вы, Катя, не знаете дороговизны петербургской жизни. Илья получает три тысячи, я зарабатываю приблизительно столько же. Илья добр, вы знаете его доброту. Он многим помогает и, уверяю вас, при таких средствах особенной роскоши не заведешь.
– Я сужу по вашим платьям и безделушкам, – говорит она, немного сбитая с толку.
«Как ты молода еще, милая», – думаю я и продолжаю:
– Я люблю все красивое и изящное – это правда, но таким труженикам, как мы с Ильей, большая роскошь не по карману. Не забудьте, я еще всю зиму болела и не могла работать.
Она не выдерживает:
– Право, глядя на вас, как-то странно слышать: труженица, работать…
– Почему? – наивно спрашиваю я. Мать тревожно взглядывает на Катю.
– Ваша работа для вас – развлечение, удовольствие.
– А разве надо ненавидеть свою работу? Разве вы ненавидите ваших учениц, ваш труд? – удивляюсь я.
Она хочет что-то возразить, но я не даю:
– Правда, мой труд лучше оплачивается. Художниц меньше, чем учительниц.
Она начинает краснеть.
– Вы производите предметы роскоши, не знаю, труд ли это.
– Значит, вы ни во что не ставите работу бедной фабричной девушки, которая целый день гнет спину над плетением кружев, – восклицаю я с ужасом, – только потому, что она производит предметы роскоши?
«Не слишком ли я?» – мелькает у меня в голове. Да нет, «бедная труженица», «гнуть спину» – это такие обиходные слова в ее лексиконе, что она и не заметила их.
– Да, но работница получает гроши! – восклицает Катя.
– Опять только потому, что работниц много. Да и потом надо же как-то оценивать талант и творчество. Ведь переписчик получает гроши сравнительно с писателем.
Катя молчит. Мать тревожно смотрит на нее. Я принимаюсь опять за работу, и мне досадно. Катя – слишком слабый противник. Стоит ли тревожить мать этими разговорами? Не молчать ли лучше? Что за бабье занятие – такая пикировка!
Какая чудная ночь! Я стою в саду. Какая тишина, какой аромат! Вся листва, весь воздух, трава полны светящимися мухами. Море шумит, шумит. Я бы пошла туда, к морю, но калитка заперта. Искать ключ – перебудишь всех в доме. Все спят. Как могут люди спать в такую ночь? Как может спать Женя! Я в ее годы была способна прогулять всю ночь.
– Таточка, вы не спите? – слышу я ее голос с террасы.
– Нет, сплю! Это я в припадке лунатизма гуляю по саду! – говорю я загробным голосом.
Женя хохочет и выбегает ко мне. Она закутана в большой байковый платок.
– Как вы неосторожны, Таточка, в одном батистовом платье. Лихорадку схватите.
– Верно! На этом Кавказе при всех наслаждениях природой всегда стоит лихорадка.
– Я поделюсь с вами своим платком! Женя окутывает меня, и мы медленно идем по саду.
– Таточка, я вас ужасно люблю, – Женя нагибается и целует меня. Я не маленького роста, но она выше. – Вы, может быть, не поверите, а я с первого взгляда полюбила вас! Нет, я даже вас раньше полюбила, давно, как только Илюша стал нам писать о вас. Я Илюшу тоже страшно люблю – больше, чем Катю и Андрея.
– Илья лучше всех! – смеюсь я.
– Да, да, лучше всех! И вы такая именно жена, какую я хотела для него!
Это детский лепет, но мне отрадно, мне тепло, я ее целую с благодарностью.
– Вы так не похожи на всех наших знакомых дам. Вы какая-то такая… яркая. Вот мама и Катя говорят, что вы некрасивая. А вы мне кажетесь красивей всех, кого я знаю. Катя находит, что ваши платья, ваша прическа слишком театральны, а мне все это кажется таким красивым. Катя у нас чрезвычайно строгая ко всему, что она называет пустотой, а к этому она причисляет все: и веселье, и платья. И ведь это предрассудки, не правда ли?