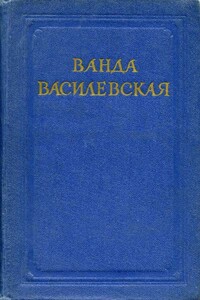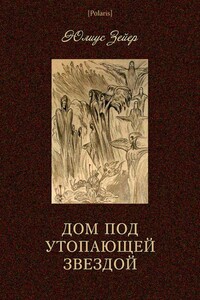Антеку все это хорошо знакомо. В прежние годы ему не раз приходилось, по приказу ясновельможной пани, подниматься наверх, чтобы развлекать скучающих детей. Он видел тяжелую мебель красного дерева, хрустальные вазы, цветы, получал кой-какие остатки обеда. Ходил он под угрозой отцовского ремня, а ясновельможная то и дело напоминала господу богу и людям о своем благотворительном поступке. Кончилось дело скандалом, отец едва не вылетел со службы, Антек три дня не мог сесть. Но ходить наверх его больше не заставляли.
Впрочем, господские дети подрастали, и у них уже были более интересные занятия, чем водиться с мальчишкой из швейцарской. Ясновельможный паныч с трудом проталкивался из класса в класс, а в свободные минуты, забившись в чащу сада, рассматривал порнографические картинки, доставляемые ему услужливыми сверстниками. Ясновельможная паненка без труда оканчивала гимназию, навещала приятельниц, ездила за границу; летом, когда в послеобеденные часы ясновельможные родители ложились подремать, ее щипал в уютной садовой беседке репетитор брата. Сквозь длинные полусомкнутые ресницы она теперь часто рассматривала Антека. Но он проносился по двору и саду как заяц, никогда не замечая никого из ясновельможной семьи.
В то время, когда еще можно было получить работу, он несколько месяцев подряд уговаривал отца выбраться отсюда. Но старик смотрел на него как на помешанного. Он вообще не понимал, чего хочет от него сын. Старик машинально гнул спину в синей ливрее, машинально говорил свое «целую ручки» и просто не представлял себе, как может быть иначе. Мать спокойно вычесывала собачек, — крохотные английские и японские чудовища, — грела для них сливки и готовила ванну. Утомляя слепнущие глаза, штопала кружева ясновельможной, массировала жирные ноги страдающего чем-то ясновельможного и тоже не могла себе представить, что может быть иначе. Покорная улыбочка приросла к ее старому лицу. Антек сходил с ума от ярости, глядя на эту приклеившуюся к ее губам лакейскую улыбочку.
Ясновельможная с каждым годом становилась все скупее и набожнее. Уже два раза она урезывала Томашу жалование, но зато все прилежнее заботилась о спасении душ его и его семьи.
— Антек, ясновельможная пани спрашивала, был ли ты в костеле?
— Ей-то что?
— Как «ей-то что»? Ее хлеб едим, у нее служим, она и отвечает за нас перед господом богом, — елейным голосом повторяет мать уроки, преподанные ясновельможной.
— И хлеба ее я не ем и на службе у нее не состою. Нечего ей совать нос в мои дела.
В сущности мать знала, что так оно и есть. Он ведь зарабатывал и вносил в семью деньги за свое содержание.
— Но видишь ли, Аптек, как-никак все же это ясновельможная пани, наша барыня.
— Ох, оставьте вы, мама, эту ясновельможную! Я ей не лакей!
Резкий голос отца в дверях.
— А кто тут лакей? Кто? Может, я? Отец, а?
— Оставьте меня в покое! Пусть она нянчится с собачками и с этим, как его… духовником, ко мне пусть лучше и не прицепляется!
Мать только руками всплескивала, перепуганная до полусмерти.
— Антек! Что ты болтаешь?
— Ничего!
И хлоп дверью. Бежать, бежать отсюда куда глаза глядят.
Но как раз тут он остается без работы. Ясновельможная между тем ничуть не остывает в своем религиозном усердии.
— Ну, милая, был ваш сын вчера в костеле?
— Был, был, ясновельможная пани, — потупив глаза, торопливо отвечает та.
— Очень хотела бы убедиться, — цедит сквозь зубы ясновельможная. — Я кое-что слышала, весьма некрасивые вещи…
Мать холодеет. Что там еще мальчик мог натворить?
— Да, да, весьма некрасивые вещи… В католической семье… В моем доме…
Та уж и спросить не смеет, у нее темнеет в глазах. Самые чудовищные картины ураганом проносятся в голове.
Но ясновельможная все цедит сквозь зубы, медленно, ядовито, и застывшее на мгновение сердце снова начинает биться.
Однако сам Томаш смотрит на дело иначе. Он мрачно обращается к сыну:
— Ты перестанешь или нет водиться с этим Анатолем?
— Нет.
Шапку в охапку и за дверь.
Но отец не унимается.
— Чтоб в воскресенье ты был в костеле — и баста!
Антек, остолбенев от удивления, таращит на него глаза. В первый момент ему кажется, что он ослышался.