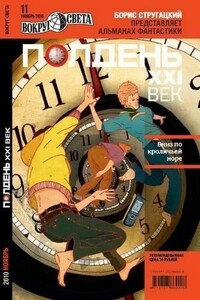Носилки выплывают из кадра; камера задерживается на Луле, которая с болью и сочувствием глядит на залитое слезами лицо и вздрагивающие плечи маленькой жертвы во втором ряду. Чьи-то пальцы прикасаются к руке Лулы. Она вздрагивает, испуганно оборачивается, но, увидев перед собой доброе лицо доктора Пула, успокаивается.
– Я полностью с тобой согласен, – шепчет он. – Это дурно, несправедливо.
Быстро оглянувшись вокруг, Лула осмеливается ответить ему слабой благодарной улыбкой.
– Нам пора идти, – говорит она.
Они спешат за остальными. Вслед за носилками выходят из кофейни, поворачивают направо и входят в коктейль-бар. Огромная куча человеческих костей в углу зала доходит чуть ли не до потолка. Сидя на корточках в густой белой пыли, десятка два ремесленников выделывают чашки из черепов, вязальные спицы – из локтевых костей, флейты – из берцовых, ложки, рожки для обуви и домино – из тазовых и втулки для кранов – из бедренных.
Объявляется перерыв; один из рабочих играет «Хочу детумесценции» на флейте из большеберцовой кости, а другой тем временем подносит вождю великолепное ожерелье из позвонков разной величины – от детских затылочных до поясничных боксера-тяжеловеса.
Рассказчик
«…и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Сухие кости тех, кто умирал тысячами, миллионами в течение трех светлых летних деньков, которые у вас еще впереди. «И сказал мне: «Сын человеческий! оживут ли кости сии?». Я ответил отрицательно. Потому что, хотя Барух и может помочь нам не попасть (возможно) в подобное хранилище костей, он бессилен отвести от нас ту, другую, более медленную и гнусную гибель…
В кадре носилки, которые несут по ступеням к главному входу. Вонь здесь неимоверная, грязь – неописуемая. Крупный план: две крысы, гложущие баранью кость; рой мух над гноящимися веками маленькой девочки. Камера отъезжает, дальний план: несколько десятков женщин, половина из которых с выбритыми головами, сидят на ступенях, на полу среди отбросов, на распотрошенных остатках бывших кроватей и диванов. Каждая из них нянчит младенца, всем младенцам по два с половиной месяца, младенцы у бритоголовых матерей – уродцы. Кадры, снятые крупным планом: личики с заячьей губой, тельца с обрубками вместо рук и ног, ручонки с гроздьями пальцев, грудки, украшенные сдвоенными сосками; за кадром – голос Рассказчика.
Рассказчик
Это другая погибель – на сей раз не от чумы, не от яда, не от огня, не от искусственно вызванного рака, а от бесславного разрушения самой сущности биологического вида. Эта страшная и совершенно негероическая смерть, предопределенная при рождении, может быть результатом как развития атомной промышленности, так и атомной войны. В мире, питающемся энергией атомного распада, бабка каждого человека так или иначе имела дело с рентгеновским излучением. И не только бабка – дед, отец, мать, три, четыре, пять поколений предков каждого человека, которые все ненавидят Меня.
С очередного уродца камера вновь переходит на доктора Пула, который стоит, прижав платок к своему слишком чувствительному носу, и с ужасом и смущением смотрит на происходящее вокруг.
– Все дети выглядят словно они одного возраста, – обращается он к стоящей рядом Луле.
– А ты как думал? Они же все родились между десятым и семнадцатым декабря.
– Но в таком случае… – страшно смутившись, запинается доктор Пул. – Похоже, – поспешно добавляет он, – что здесь все совсем не так, как в Новой Зеландии.
Несмотря на выпитое вино, он вспоминает о своей седовласой матери за океаном и, виновато покраснев, кашляет и отводит глаза.
– А вон Полли! – восклицает его спутница и спешит на другой конец зала.
Пробираясь между сидящими на корточках и лежащими матерями и бормоча извинения, доктор Пул движется вслед за нею.
Полли сидит на набитом соломой мешке рядом с бывшей кассой. Ей лет восемнадцать-девятнадцать, она невысока и хрупка, голова у нее выбрита, словно у приготовленного к казни преступника. Красота ее лица – в тонких чертах и огромных ясных глазах. С болезненным замешательством она поднимает их на Лулу, а потом равнодушно, безо всякого выражения, переводит их на лицо незнакомца, стоящего рядом.