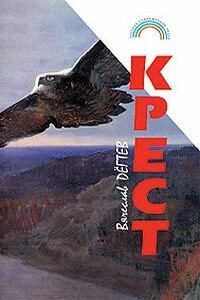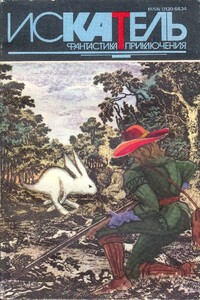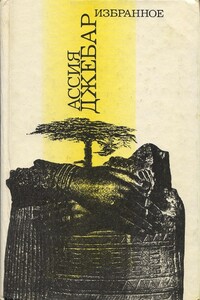Ночью увидел свою смерть в третий раз. Подушка и скомканное на кровати одеяло были прошиты автоматными пулями, выпущенными с соседней крыши. Весь остаток ночи пролежал на диване, не шевелясь, словно в подушке кишели скорпионы, с переполненными ужасом зрачками — ты видел их, свои черные глаза, в безучастном зеркале напротив.
Всю ночь по стене скользили блики далеких костров; всю ночь Бетховен гремел готическим металлом, и не было сил встать, чтобы вывернуть звук…
И, лежа как в параличе, понял, что это — Судьба. Она всех нас ведет, а кого и тащит… И бороться с этим бессмысленно и бесполезно, да и глупо; это подобно воде, которой можно умыться, но в которой можно и утонуть; или электричеству, которое дает благо, но которое и убивает тех, кто пренебрегает техникой безопасности…
Уму непостижимо: отвело, обнесло три раза… Для чего? Неужто есть в этом какой-то высший смысл? Но какой?..
Наутро решил нырять еще глубже. В Россию! Тем более, что гам живет брат деда, которому ты внучатый племянник (а он тебе, выходит, — дедоватый дядя, что ли?). И, едва проснувшись, поехал к русскому консулу.
X
И вот я тут. На родине деда. В России, которая, в самом деле — часть света. На берегу узкого мелкого Дона, о котором столько всего написано и спето. Сейчас кругом искрящаяся синь, а днем тут — желто-голубой простор; заматерелые травы рыжи; стриженные поля — конопаты.
По-девичьи чиста предосенняя златая нагота…
Нет, не думал, не предполагал, что будет так больно и так тревожно от встречи с родиной деда. Вот оно, оказывается, что такое — загадочная славянская душа! Что такое — ностальгия… Хоть и пытались некоторые доказывать, что казаки — потомки готов, нет, друзья, славяне мы, славяне…
Всё тут другое. И запахи, и цвет небес, и вкус воды. И земля непривычно черная… А вот плачет, истекает душа мягкой истомой, словно натолкнулась на что-то, так, наверное, бывает — и больно и сладко, — ветру, когда он натыкается на пернатые стрелы птиц… И выплывает из забвения дед, его улыбка, синий бархатный мир его глаз, стоит посмотреть на лобастый крутосклон, на чубатые тальники — и вот оно, перед взором, дедово лицо, словно тончайшей медовой струйкой начертанное на зеленом листе.
Когда разыскал дом Савелия, своего дедоватого, и подал ему фотографию его «пестуна» Игната, тот прослезился и поцеловал портрет; поцеловал по очереди портреты бабушки и моих родителей. Силён, кто не прячет слез, когда хочется плакать…
Ради моего приезда Савелий зарезал свинью. Он подходил к ней медленно, высокий, сутуловатый, похожий на горбатый топор, а несчастное животное, ничего не подозревая, чавкало себе свеклой… Попробовав лезвие ногтем, он переложил нож в левую руку, правой перекрестился. Так же делал дед Игнат, когда резал свиней: нож — в левой, правой крестится. Потом удар, кровь и пронзительный крик на всемогущем языке матери-смерти, понятном всему живому, и бабушкин шепот перед иконой, и я утыкаюсь ей в передник, под теплые ласковые руки, пахнущие топленым молоком. Зачем Бог создал свиней? Чтобы их резали и ели? Кто ему ближе — свинья, у которой все внутренние органы такие же, говорят, как у людей, или человек, который крестится, чтобы ловчее убить? За что приносят свинью в жертву нашей алчности?
Но вот на сковородке шкворчит сало («почерёвка»), и вопросы исчезают… Ух, как наедался в такие дни. Как свинья! И даже перекреститься за столом забывал…
Днем гулял по хутору. Попадались прохожие, всматривались в меня. А я — в них. Мы угадывали друг друга… До чего же все они похожи на родню: на деда, на отца, на Савелия, на меня — один генотип! Или как там?..
Встретил у хуторского магазина тех парней, которые приставали в «клубе». Они были уже пьяные — и это в середине буднего дня! Ничего не делали — пили пиво! Смерили меня презрительными взглядами и отвернулись. Демон-стра-тив-но.
— Фрайер! — услышал вослед.
Боже, и это — казаки?!
Перед вечером, на заре, купался в Дону. Прямо напротив меловых столбов — «на ты, на вы, на ваше высочество». Вода в реке редкая, слоистая, словно из шелковых волокон. В ней, подобно газу в лимонаде, растворено какое-то электричество, которое сбегает меж пальцев, смывает что-то с лица, а еще — усталость и прожитые годы, покалывает бодряще, пощипывает, — и наверное, от этого не чувствуется холода. А уже холодно. Конец августа, не шутка. Это у нас август — начало весны, а тут — конец лета. Но я окунался в воду и окунался — ух! ух! — и не от холода, а от чего-то другого захватывало дух. А я купался и купался, и не мог накупаться… Пытался наловить раков. Дед рассказывал — ловили ведрами. Ни одного не поймал. О, сколько слышал от деда об этой реке, о меловых склонах, о розовых тальниках, о песке, зернистом и белом как сахар, о шелковистой воде, — сколько раз мечтал увидеть это, и вот я тут, среди русоволосых людей, среди родни, и сено под боком пахнет остро — чем? чабрецом? донником? — так что же со мною творится? Чего не хватает? Почему нерадостно? Почему о другом болит душа? О другой воде, о другом солнце, о других травах и о других людях…