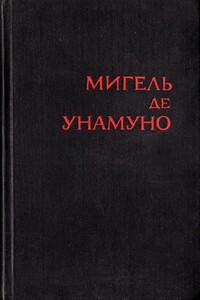Жизнь защищает себя, она ищет у разума слабое место, и, обнаружив его в скептицизме, ухватившись за него, пользуясь слабостью разума, она пытается спастись. Ей необходима слабость ее противника.
Нет ничего несомненного; все подвешено в воздухе. И Ламенте стенает в тоске (Essai sur l'indifference еп mature de religion, III partie, chap. 67): «Неужто слепо, утратив всякую надежду, нам предстоит погрузиться в безмолвные глубины универсального скептицизма? Неужто усомнимся мы в том, что мы мыслим, чувствуем, существуем? этого не позволяет нам наша природа; она заставляет нас верить даже тогда, когда разум наш не убежден. Абсолютная уверенность и абсолютное сомнение для нас одинаково запретны. Мы плывем в тумане меж этих двух берегов, как между бытием и небытием, ведь абсолютный скептицизм был бы угасанием разума и в конце концов - смертью человека. Но человеку не дано истребить себя; в нем есть нечто такое, что упорно сопротивляется уничтожению, я не знаю почему, но даже его собственная воля не может победить живую веру. Хочет он того или нет, но ему необходимо верить, потому что он должен действовать, потому что он должен поддерживать свое существование. Его разум, если бы он прислушивался только к нему одному, научив человека сомневаться во всем и в самом себе тоже, довел бы его до состояния абсолютного бездействия; он умер бы прежде, чем сумел бы доказать самому себе, что он существует».
На самом деле это неверно, что разум приводит нас к абсолютному скептицизму. Вовсе нет! Разум не ведет и не может привести меня к сомнению в том, что он существует; разум ведет меня к жизненному скептицизму, вернее, к жизненному отрицанию; уже не к сомнению, а к отрицанию того, что мое сознание переживет мою смерть. Жизненный скептицизм проистекает из столкновения между разумом и желанием. И из этого столкновения, из этого объятия, в которое заключают друг друга отчаяние и скептицизм, рождается святая, сладчайшая, спасительная неуверенность, наше высшее утешение.
Абсолютная, полная уверенность в том, что смерть является полным, окончательным и необратимым уничтожением личного сознания, уверенность, подобная нашей уверенности в том, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым углам, или абсолютная, полная уверенность в том, что наше личное сознание после смерти так или иначе продолжит свое существование, а главное должно будет вступить в то неведомое и совершенно иное дополнение к нашей жизни, которое состоит в вечном вознаграждении или наказании, - обе эти уверенности в равной мере сделали бы нашу жизнь невозможной. Тот, кто думает, что он уверен в том, что смерть навеки прекратит существование его личного сознания, его памяти, наверное и сам не ведает о том, что в самом сокровенном тайнике души у него остается тень, легкая тень тени неуверенности, и в то время как он говорит себе: «Так давай, живи эту короткую жизнь, другой-то ведь не будет! ", молчание этого тайника говорит ему: «Кто знает!..». Он, может быть, и верит в то, что этого не слышит, но все равно он это слышит. И в душе того, кто думает, что еще сохранил веру в будущую жизнь, тоже есть тайный голос, голос неуверенности, который нашептывает его духовному слуху: «Кто знает!..». Голоса эти, наверное, похожи на жужжанье москита, когда ветер ревет в лесу среди деревьев; мы не отдаем себе отчета в этом жужжанье и, тем не менее, вместе с грохотом бури до нас все- таки доносится его звук. В противном случае, без этой неуверенности, как смогли бы мы жить?
Эти «а что если да?» и «а что если нет?» являются основой нашей внутренней жизни. Может быть и нашелся бы такой рационалист, который ни разу не поколебался в своем убеждении в смертности души, и такой виталист, который ни разу не поколебался в своей вере в бессмертие; но это означало бы, самое большее, что так же как существуют уроды, существуют тупицы по части аффектов, или чувств, каким бы великим интеллектом они ни обладали, и тупицы по части интеллекта, как бы ни были велики их добродетели. Но, исключая подобные отклонения от нормы, во всех прочих случаях я не могу верить тем, кто уверяет меня, будто никогда, ни в самом мимолетном озарении, ни в часы величайшего одиночества и горя, на поверхность их сознания не поднимался этот ропот неуверенности. Я