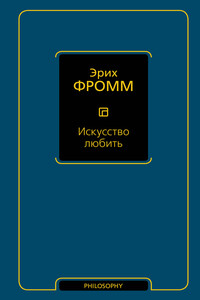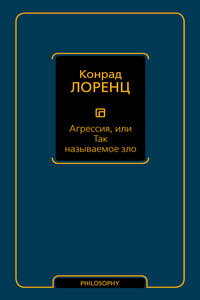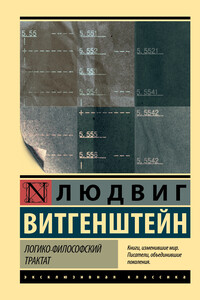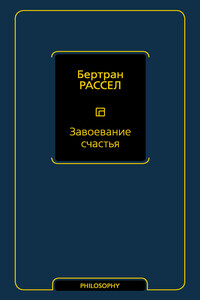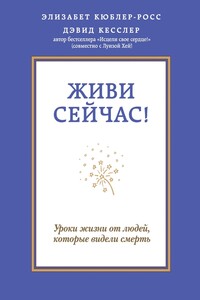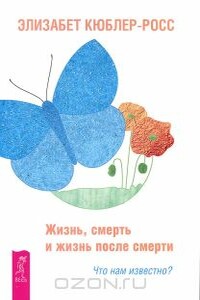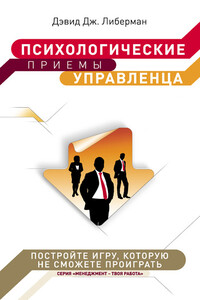Расскажу еще об одном сложном пациенте, который считал себя хозяином своей судьбы и впадал в ярость оттого, что теперь вынужден передать рычаги управления в чужие руки. О. доставили в больницу со злокачественным лимфогранулематозом. Он утверждал, что болезнь заработал из-за постоянного недоедания. О. был состоятельным, успешным бизнесменом. Никаких сложностей с питанием он не испытывал; никогда в жизни ему не приходилось садиться на диету из-за лишнего веса. Его выводы о причинах заболевания не имели ничего общего с реальностью, однако больной настаивал, что он и только он в ответе за нынешнюю «слабость». Будучи человеком в высшей степени разумным, обладавшим обширными знаниями, О. тем не менее продолжал отрицать свою болезнь, несмотря на то, что получал сеансы лучевой терапии. Пациент заявлял, что его судьба – в его руках и он может в любой момент встать и уйти из больницы, стоит лишь принять решение питаться регулярно.
Супруга О. как-то зашла в мой кабинет со слезами на глазах. Она заявила, что терпеть больше не в силах. Судя по ее рассказу, О. был настоящим тираном, держал под жестким контролем не только бизнес, но и свою семью. Находясь на больничной койке, он отказывался сообщать кому бы то ни было о тех сделках, что планировал. Он злился на жену, когда та навещала его, и чрезвычайно эмоционально реагировал, если она задавала ему вопросы или пыталась дать совет. Супруга описала О. как человека, который привык доминировать, требовать, подчинять людей своей воле, сказала, что он неспособен смириться с ограничениями. Больной решительно не желал говорить о том, что следовало бы обсудить, и миссис О. просила ей помочь справиться с ним.
Пришлось рассказать женщине, что О. просто не мог осознать: он уже не контролирует все на свете. Мы привели в пример его попытки винить себя за свою «слабость». Мы поинтересовались, может ли миссис О. внушить мужу ощущение, что он все еще способен управлять своей жизнью (хотя прежних возможностей у него уже не было). Миссис О. продолжила навещать мужа, однако стала действовать в указанном нами направлении. Перед посещением она теперь каждый раз звонила мужу, уточняла, какое время визита будет для него наиболее удобным, сколько времени он сможет ей уделить. Как только О. почувствовал, что может сам определять время и продолжительность посещений, их свидания стали краткими, но приятными для обеих сторон. Миссис О. также перестала давать супругу советы относительно питания и распорядка дня, пытаясь сформулировать свою точку зрения иначе: «Уверена, кроме тебя, никто не знает лучше, когда нужно будет съесть то-то и то-то». О. снова начал нормально питаться, впрочем, убедившись прежде, что ни родственники, ни медицинский персонал не мешают ему принимать решения.
Сестринский персонал также начал придерживаться аналогичного подхода, позволяя пациенту выбирать удобное для него время инъекций, смены постельного белья и т. д. Наверное, не стоит удивляться, что О. выбирал для этих процедур примерно то же время, в которое они обычно совершались и раньше, только уже не испытывал гнева, не пытался противодействовать. Жена с дочерью получали удовольствие от встреч с пациентом, и также избавились от раздражения и вины за свои реакции на поведение тяжелобольного мужа и отца. С О. было непросто сосуществовать и раньше, когда же он ощутил, что не управляет ситуацией – стал совершенно невыносим.
Подобные пациенты представляют огромную сложность для психологов, психиатров, больничных капелланов и другого медицинского персонала, поскольку их время общения с пациентом ограничено, а нагрузка на работе велика. Когда мы улучаем минутку, чтобы посетить пациента типа О., больные часто говорят: «Нет, сейчас не время, зайдите позже». В таких условиях легко забыть о пациенте, упустить его. Частенько больной сам провоцирует такие ситуации. Ему давали шанс, но ведь наше время расписано до минуты… В то же время такие пациенты, как О., особенно одиноки; не только потому, что с ними непросто общаться, но и потому, что они вас сразу отвергают и примут лишь в том случае, если это произойдет на их условиях. В этом отношении состоятельным и успешным людям, так называемым VIP-персонам, контролирующим все и вся, приходится хуже всего. Дело в том, что рано или поздно они утрачивают преимущества, которые делали их жизнь столь приятной. В конце концов, мы ничем не отличаемся друг от друга, однако люди, подобные О., не могут этого признать. Они сражаются с реальностью до победного конца и часто упускают возможность просто прийти к мысли, что у смерти нет предпочтений. Таким пациентам свойственны неприятие действительности и гнев, они острее других ощущают безысходность.