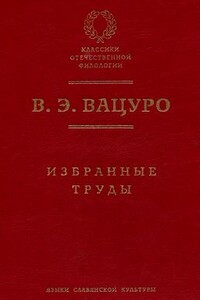Пушкинские «литературные жесты» у М. Ю. Лермонтова
Сюжет, которым мы займем внимание читателя, восходит хронологически к середине 20-х годов XIX века, когда о Лермонтове-поэте еще нет и речи. На литературной авансцене совсем другие лица — декабристы-литераторы и молодой Пушкин, находящийся в южной ссылке. В Петербурге альманах «Полярная звезда» расходится с невиданным до того успехом; его издатель К. Ф. Рылеев только что закончил новую поэму «Войнаровский», которая еще не напечатана и ходит в списках.
Приятель Рылеева, также будущий декабрист, П. А. Муханов пишет ему с юга: «Войнаровский, твой почтенный дитятко, попал к нам в гости; мы его приняли весьма гостеприимно, любовались им, он побывал у всех городских любителей стихов и съездил в Одессу. Я тебе говорю об отрывках, которые занесены сюда не знаю кем… Войнаровский твой отлично хорош: я читал его М. Орлову, который им любовался; Пушкин тоже…»
Письмо от 13 апреля 1824 года. Пушкин читает отрывки декабристской поэмы в Одессе.
Пушкин находит строфу и в плащ широкий завернулся единственною, выражающею совершенное познание сердца человеческого и борение великой души с несчастием…[486]
«Строфа», о которой говорил Муханов, изображала сцену, когда гетман Мазепа узнал о крушении своих честолюбивых замыслов и о проклятии, положенном на его имя. Она звучала так:
В ответ, склонив на грудь главу,
Мазепа горько улыбнулся;
Прилег, безмолвный, на траву,
И в плащ широкий завернулся…
Что же привлекло Пушкина в этих стихах? Жест. Скупой, лаконичный и выразительный, за которым угадывается сильное душевное движение.
Он сам в эти годы упорно искал именно такого жеста. Через шесть лет он будет вспоминать, как А. Раевский «хохотал» над подчеркнутой театральностью жеста в «Бахчисарайском фонтане». «Молодые писатели, — напишет Пушкин в „Опровержении на критики“, имея в виду и собственные свои ранние поэмы, — вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».
Строчка в «Войнаровском» была удачным примером изображения «физического движения страстей».
Тем временем сам Пушкин, уже в Михайловском, заканчивает «Цыган», где вновь сталкивается с той же проблемой. Он пишет кульминационную сцену поэмы, где Алеко смотрит, как предают земле убитых им Земфиру и молодого цыгана. Он закончил сцену словами:
Алеко издали смотрел
На все. Когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.
Это была одна из первых его попыток создать «жест» по рылеевской модели, — и через три года его особенно задело замечание в рецензии Вяземского. Тот очень высоко оценивал поэму, но стих «и с камня на траву свалился» ему решительно не нравился и казался «вялым». В поздней приписке к статье о «Цыганах» Вяземский вспоминал, что А. А. Муханов (кстати, брат того Муханова, о котором мы уже упоминали) рассказывал ему, будто Пушкин не совсем доволен «слишком прозаическим взглядом» и докторальным тоном Вяземского; Вяземский полагал даже, что эпиграмма Пушкина «О чем, прозаик, ты хлопочешь?» была местью ему со стороны Пушкина[487]. В толковании эпиграммы он ошибался, — но след спора его с Пушкиным о «жесте» Алеко остался в печати; в 1829 году в «Московском телеграфе» (№ 10) проскользнуло попутное замечание: «…Не прав ли Пушкин, сказавший одному своему критику, осуждавшему его стих в „Цыганах“ „И с камня на траву свалился“: „Я именно так хотел, так должен был выразиться!“»